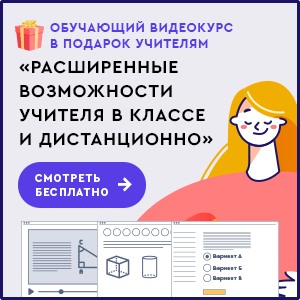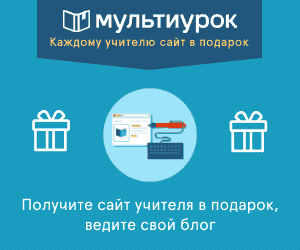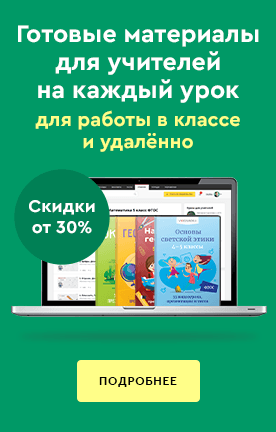Уважаемые коллеги! предлагаю вашему вниманию программу прикладного курса по литературе в 11 классе. Данная программа включает в себя изучение зарубежной литературы начиная с Древней Греции и заканчивая современной литературой Здесь учащиеся познакомятся с культурой разных народов. В свою очередь проходить связь русской и иностранной литературы. На уроках используются разнообразные формы работы, такие как реферараты, семенары, исследовательская деятельность, составление презентаций и их представление.
- Меню
- Главная
- Дошкольное образование
- Начальные классы
- Астрономия
- Биология
- География
- Информатика
- Математика
- Алгебра
- Геометрия
- Химия
- Физика
- Русский язык
- Английский язык
- Немецкий язык
- Французский язык
- История
- Естествознание
- Всемирная история
- Всеобщая история
- История России
- Право
- Окружающий мир
- Обществознание
- Экология
- Искусство
- Литература
- Музыка
- Технология (мальчики)
- Технология (девочки)
- Труд (технология)
- Физкультура
- ИЗО
- МХК
- ОБЗР (ОБЖ)
- Внеурочная работа
- ОРК
- Директору
- Завучу
- Классному руководителю
- Экономика
- Финансовая грамотность
- Психологу
- ОРКиСЭ
- Школьному библиотекарю
- Логопедия
- Коррекционная школа
- Всем учителям
- Прочее
Создайте Ваш сайт учителя Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей
- Главная
- Литература
- Планирование
- программа прикладного курса по литературе
Программа прикладного курса по литературе
Просмотр содержимого документа
«программа прикладного курса по литературе »
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ «Долонская
средняя школа»
_________ Б.Закуов
Образовательная программа элективного курса
для учащихся 11 класса
Зарубежная литература
(34 ч)
Составила:
Базылханова Светлана Михайловна,
учитель русского языка, литературы и МХК
2013-2014 учебный год
Учебно-тематический план
| № | Кол-во часов | Тема занятия | Вид урока | Дата проведения |
| 1 | 1 | Введение | Лекция. Беседа. |
|
| 2 | 1 | Древняя Греция и Древний Рим. Римская лирика | Исследование |
|
| 3, 4 | 2 | Гораций в русских переводах | Видеоурок (просмотр и обсуждение) |
|
| 5,6 | 2 | Куртуазная поэзия | Семинар |
|
| 7,8 | 2 | Поэзия трубадуров | Семинар |
|
| 9,10 | 2 | Эпоха трагического гуманизма. | Обзор с элементами беседы |
|
| 11,12 | 2 | У.Шекспир «Гамлет» | Лекция, беседа |
|
| 13, 14 | 2 | «Метафизическая поэзия» в Англии. Джон Донн. | Беседа (индуктивная, дедуктивная) |
|
| 15,16 | 2 | «Прощание, запрещающее печаль» - особенности барочного остроумия. | Исследование |
|
| 17,18 | 2 | Жанр басни. Лафонтен и русские баснописцы. | Семинар-практикум |
|
| 19,20 | 2 | Эзоп, Лафонтен, Крылов. | Семинар |
|
| 21,22 | 2 | Гете и Пушкин. | Читательская конференция |
|
| 23, 24 | 2 | Вальтер Скотт. Создание исторического романа. | Исследование |
|
| 25,26 | 2 | Как решил Скотт лингвистическую проблему с «Айвенго»? | Дискуссия |
|
| 27, 28 | 2 | Творчество Чарльза Диккенса в викторианском контексте. | Исследование |
|
| 29,30 | 2 | Детективный роман Чарльза Диккенса | Урок – размышление |
|
| 31,32 | 2 | Традиция и авангард: Гарсиа Лорка. | Читательская конференция |
|
| 33 | 1 | Ф. Гарсиа Лорка. Городские романсы | Семинар-диспут |
|
| 34 | 2 | Итоговая конференция | Урок-конференция |
|
Программа элективного курса "Зарубежная литература"
Курс «Зарубежная литература» представляет собой интегрированную программу, включающую в себя элементы таких учебных дисциплин, как «Литература» и «Иностранный язык». Данный курс рассчитан на один год обучения в 11 классе гуманитарного и филологического профиля для введения учащихся в западное культурное пространство Европы и США в соответствии с нормами и ценностями открытого общества.
Страноведческое содержание курса призвано завершить формирование у старшеклассников представления о всемирной литературе. Учащиеся знакомятся с фактическими сведениями о литературе иноязычных стран в разные исторические периоды.
Знакомство с культурой зарубежных стран основано на постоянном сравнении полученных знаний со знаниями о своей стране, себе самих. В результате происходит своеобразный диалог культур, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям и традициям. Сравнение также требует от учащихся проявление собственного мнения, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о своей стране, и о других странах.
Главной задачей учебного аспекта программы «Зарубежная литература» является систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление материала по учебным дисциплинам «Литература» и «Иностранный язык», а также подготовка учащихся к экзаменам в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В области чтения ставится задача совершенствования трёх наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания, чтения с детальным пониманием прочитанного, поискового чтения. Обучение чтению ведется на основе аутентичных (т.е близких к оригиналу) текстов, соответствующих возрастным интересам учащихся.
В связи с тем, что обучение построено на переведенных и аутентичных текстах разного характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся.
Данный элективный курс предназначен для работы в 11 классе. Занятия проводятся один раз в неделю в течение одного года. Предполагается чтение лекций, проведение практических (семинарских) занятий и текущий контроль за чтением учащихся. Курс рассчитан на 32 часа и завершается зачетом.
Общие понятия, употребляемые при изучении курса
Понятие о литературе как искусстве слова, закрепленном в письменной форме.
Роды литературы. Эпос, лирика и драма. Их различия в зависимости от позиций автора по отношению к изображаемому материалу. Различные жанровые формы внутри родов. Роман, повесть, рассказ, новелла, эпическая поэма, басня, афоризм в эпосе. Комедия и трагедия в драме. Лирическая поэма, стихотворение в лирике.
Художественный образ, троп – особая форма отражения действительности, «магический кристалл» (А.С. Пушкин), трансформирующий явление жизни. Понятие о метафоре и эпитете.
Тема произведения как его концентрированное содержание. Идея – основная мысль произведения.
Построение художественного произведения. Понятие о композиции, завязке, кульминации и развязке. Сюжет как «цепочка причин и следствий» (Б.В. Томашевский).
Понятие о классицизме, барокко, романтизме, реализме, модернизме.
В ходе изучения курса «Зарубежная литература» учащиеся формируют краткий словарь основных литературоведческих терминов и дополняют его примерами в процессе слушания курса.
Урок по античности
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ. РИМСКАЯ ЛИРИКА. ГОРАЦИЙ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Чем Рим отличается от Греции?
Когда мы ведем речь о греческих богах, наверняка у кого-то возникает вопрос: разве имя бога войны в классической мифологии — Арес, а богини любви — Афродита? А где же Марс, Венера? Они ведь более известны. В их честь названы планеты нашей Солнечной системы.
Первые имена — греческие, вторые — римские. Античная классика — это греко-римский мир. В нем греки были первыми, но римляне, восприняв их культурное наследие, распространили его по всей Европе вместе со своим языком — латынью. И после падения Рима латынь более тысячи лет оставалась языком европейской науки, философии, дипломатии.
Развитие римской культуры было стремительным именно потому, что у нее были такие сильные предшественники и учителя.
У истоков поэзии на латинском языке — перевод гомеровского героического эпоса — «Одиссеи», который был выполнен в середине III в. до н. э. С этого события начинается литература Древнего Рима. Через нее греческая образованность проникает в школу, создает основу образования. Следуя греческому вкусу, в Риме не только учатся, но и развлекаются: среди первых жанров возникает комедия. И мифология Рима не остается без греческого воздействия: местные боги встречаются с греческими, а иногда и нераздельно соединяются с ними.
Чем же Рим отличается от Греции?
Как мы уже видели, в мифологии — именами богов. Иногда имена греческих богов римляне переделывали на новый лад: Геракл стал Геркулесом, Геста — Вестой.
Еще чаще имена италийских богов приспосабливали к пантеону, заимствованному у греков. Зевса переименовали в Юпитера, Геру — в Юнону, Афину — в Минерву, Гермеса — в Меркурия, Посейдона — в Нептуна, Артемиду — в Диану, Аполлона — в Феба, Гефеста — в Вулкана, Диониса — в Вакха...
Старых италийских божеств осталось не так и много. Самое заметное исключение составляет двуликий Янус.
Янус когда-то был едва ли не главным божеством римлян. Его двуликость — свидетельство о древней связи с миром Хаоса, где формы еще неустойчивы, где одно легко перетекает в другое. Это знак древнего оборотничества. В обновленном римском пантеоне Янус станет богом договоров, союзов. А позднее он будет восприниматься воплощением характера лукавого римлянина и самой римской цивилизации.
Полисная жизнь грека протекала на площади. Мир римлянина классического периода — империя, в которой тем не менее он начинает ощущать себя лицом вполне частным и независимым у себя дома. Вот почему у римлян появляется большое число младших божеств, охраняющих его жилище и его самого. Кроме покровительницы семейного очага Весты есть лары и пенаты. Лары — это своего рода домовые. Пенаты также живут в доме, но их можно взять с собой и в путешествие. А кроме них у каждого человека есть свой покровитель от самого рождения — его добрый гений.
Обеспеченные римляне имели не только дом в городе, но и сельскую виллу. Они полюбили природу и захотели быть ближе к ней, уйдя от городской суеты, грязи, порока.
У римлян много природных божеств. Церера — древнейшая богиня всего растительного мира, производительных сил земли, которая станет римским вариантом греческой Деметры. Но римское воображение придало ей немало помощников — богов любимых, почти домашних, во всяком случае близких к человеку. Плодами занимается Помона, цветами — Флора. В лесах царит Сильван. Фавн — бог полей и пастбищ. Изменчивый Вертумн воплощает смену времен года.
Изменились не только боги, но и отношение к ним, да и ко всей мифологии. Появилось немало попыток с научной точностью исследовать отношения между богами, а также возвести знатные римские фамилии к тем или иным божествам. Миф сохраняет связь и подобие земной жизни с божественным порядком. Согласно с мифологическим представлением об истории человечества, после того как во второй половине I в. до н. э. в Риме установилась империя, заговорили о том, что на землю вернулся золотой век. Воспеть его — дело поэтов.
Поэты всегда выступали хранителями памяти. Но теперь они чувствуют себя гораздо вольнее в обращении с преданием, расцвечивают его вымыслом. То, что для древних имело значение высокой божественной истины, теперь становится образом прекрасной жизни, скорее воображаемой, чем подлинной. Именно так и воспринимал миф один из поэтов золотого века римской поэзии Овидий.
Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 или 18 г.) — один из самых прославленных и любимых поэтов мировой литературы. Овидий воспел «науку страсти нежной», — сказал о нем Пушкин. Как никто до него, разнообразно, Овидий рассказал о своей любви. Но не только о своей: он богато представил историю любовного чувства, поведал о наиболее прославленных влюбленных. Мифы, в том числе и любовные, Овидий обработал в эпической поэме «Метаморфозы», ставшей с тех пор одним из главных источников античных — как греческих, так и римских — сюжетов. Поэмой зачитывались две тысячи лет.
Кто такой классик?
Овидий входит в число величайших лириков Древнего Рима, которые стали классиками мировой литературы. Когда мы употребляем сегодня слово «классик», мы чаще всего имеем в виду, что говорим о великом писателе, ставшем своего рода образцом для подражания в той или иной национальной литературе. Скажем, Пушкин — русский классик, а Шекспир — английский.
Но когда мы ведем речь об античных авторах, то здесь слово «классик» приобретает второе, дополнительное значение, обозначающее определенный идеал жизни и творчества. В высшей мере он был воплощен именно римскими поэтами золотого века. Путь для них подготовил Катулл.
Гай Валерий Катулл (87 или 84 г. — после 54 г. до н. э.) прославился тем, что упорядочил звучание народной песни, ориентируя ее на образцы греческой поэзии. Автор маленького сборника, состоящего из 116 стихотворений, Катулл оказался самым близким нам и любимым сегодня среди всех античных поэтов.
Катулл учился у греков. В память о поэзии Сапфо и о ее родном острове Лесбос Катулл называет в стихах свою возлюбленную Лесбией. Настоящее ее имя — Клодия. Но и под условным именем любовь Катулла — настоящая, невыдуманная. Она не хочет знать границ, отказывается обращать внимание на весь мир, но столь же безграничным бывает отчаяние, когда возникает сомнение в любви и в верности.
Говоря, что первый из великих лириков Рима — Катулл особенно близок и понятен нам, современным людям, неповторимостью личного чувства, прозвучавшего в его стихах, не слишком ли мы торопим события? Может быть, именно потому поэты Древнего Рима и остались в памяти культуры как образец для подражания, что, вглядываясь в себя, прислушиваясь к собственным переживаниям, они сумели придать им всеобщее выражение. Классического поэта отличает умение сказать то, что чувствуют все, но никто не может выразить так совершенно. Признанное первенство в этом принадлежит Горацию.
Квинт Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.) завершил создание классической системы поэтических жанров. И он же на многие века вперед определил законы поэтического искусства в поэме «Ars poetica» («Наука поэзии»). Горация наряду с его современником Публием Вергилием Мароном (70—19 гг. до н. э.) нередко признают величайшими поэтами европейской традиции.
Гораций — классик. Это не то же самое, что классицист: классицистами будут называть тех, кто стремился воссоздать классическую систему жанров с присущим ей чувством меры, вкуса. За ее образец всегда принимали творчество римских поэтов золотого века. Гораций заново пересмотрел и привел в порядок все, что было сделано предшественниками.
Современник бурных событий, Гораций прожил жизнь поэта. В юности он был солдатом, воином республиканской армии, разбитой при Филиппах. Гораций бежал с поля боя, не снискав славы, едва спасся и нашел приют в Риме, где теперь правил победитель — император Август. Сын вольноотпущенника-раба, Гораций одинок и лишен средств. Подняться ему помогли поэзия и превосходное образование (он так хорошо знал греческий, что мог писать стихи).
В зрелости Гораций избрал покой и творчество, ставшие возможными благодаря помощи друга — Мецената.
Меценат (ум. 8 г. до н. э.), не занимая никаких постов, пользовался большим влиянием благодаря многолетней дружбе с императором Августом. Меценат ценил поэзию и, считая, что она способна придать необходимый блеск власти, поддерживал поэтов, сделав свое имя нарицательным для покровителя искусств.
Первоначально Гораций выступил как сатирик. Вероятно, этот жанр отвечал и его душевному состоянию, его отношению к городу и миру, погрязшим в пороке.
Слово сатира образовано от латинского satura — кушанье, состоящее из кусочков, мешанина, смесь. Соседство несходного и разновеликого порождает смех. Стихотворную сатиру римские поэты считали своим созданием.
Сатира вдохновляется «пешей музой», ступающей по земле, а не парящей в облаках. В то же время Гораций избегал того, что было присуще сатирикам и до, и после него, а именно негодующего обличения, непримиримого осуждения. В первой же из своих сатир он говорит, что предпочитает «с улыбкою истину молвить» (перевод M. Дмитриева).
Какие строчки русского поэта, определяющего свои отношения с царями, перекликаются с Горацием?
Истина бывает и очень неприятной, но — такова человеческая природа Горация — он не бичует пороки, а делает их смешными: грязь и распутство, сутяжничество, безделье, кичливое богатство.
Первая книга Горациевых сатир увидела свет около 33 г. до н. э., и тогда же его друг Меценат подарил поэту виллу в Сабинских горах. Уединение и досуг Горация были творческими. Некогда убежденный республиканец, теперь он принимает правление императора Августа, видя в сильной власти возможность противостоять злоупотреблениям и жестокости аристократии. Поэт верит в то, что наступил золотой век. Одна за другой пишутся четыре книги од и книга эподов.
Если ода по-гречески значит «песнь», то эпод — «припевка». Основное различие между этими жанрами носит строфический характер: ода пишется четверостишиями, а эпод — двустишиями. Горацианская ода, в отличие от той, что создавали греческие поэты, представляет собой нравственное размышление, и Гораций не раз говорит о том, что ему не дано искусство воспевать. Хвалу он умеет облечь в форму остроумного поэтического комплимента.
Оба жанра представляют собой свободное лирическое развитие темы, рассуждение, завершающееся спокойным выводом, доведенным до классической ясности, зримости мысли. У Горация страсть смиряется разумом даже в любовных стихах.
Не случайно само выражение «золотая середина» принадлежит Горацию. Он умел держать в уме крайности, посмеиваться над ними и избегать их. Даже то, что может показаться безусловно привлекательным и достойным хвалы, вдруг неожиданно поворачивается так, чтобы быть увиденным с другой стороны, в ином освещении. Знаменитый второй эпод «На Альфия» развертывается как гимн уединенной жизни:
«Блажен лишь тот, кто, суеты не ведая,
Как первобытный род людской,
Наследие дедов пашет на волах своих,
Чуждаясь всякой алчности...»
Перевод А. Семенова-Тян-Шанского
С возрастающим восторгом одна за другой сменяются картины патриархального быта. Только внимательный читатель должен был бы спросить: «А откуда в начале стихотворения взялись кавычки?» Их присутствие разъясняется в заключительном четверостишии, перед которым кавычки закрываются, и после них следует такой текст:
Когда наш Альфий-ростовщик так думает, —
Вот-вот уж и помещик он.
И все собрал он было к Идам денежки,
Да вновь к Календам в рост пустил!
Иды — середина месяца, а календы — начало, видимо, следующего месяца. Недолго в своих мечтах Альфий продержался в роли счастливого землевладельца. Натура и профессия взяли верх. Счастливый уход от мира не состоялся.
Не состоялся он и для самого Горация, который, закончив третью книгу од, собрался провести остаток дней у себя в поместье. Этому воспротивился Август. У него были другие виды на поэта: Горацию заказывают славословия, и он не в силах отказаться. Так складывается четвертая книга од, отмеченная прежним мастерством, но уже не прежней свободой размышления.
Для самого поэта в эти зрелые годы более естественным оказывается жанр дружеского послания. В нем он находит возможность откровенно поговорить с друзьями. Среди них и стареющий Меценат, отошедший от дел, мучимый болезнями, и друг — поэт Вергилий (о нем см. ниже).
В форме послания друзьям — «К Пизонам» — написана Горацием и «Наука поэзии». Поэзия, ставшая уже делом частного человека, вновь востребована для общей пользы. Теперь ее приглашают на государственную службу. И у поэта фактически нет другого выбора, как восславить свой век, назвав его золотым. Однако не за это, как полагает Гораций, ему воздадут славой потомки. За что? Он поведал об этом, завершая (как он тогда полагал) последнюю книгу своих од — третью. Заключительная ода обращена к музе трагедии — Мельпомене: «Создал памятник я, бронзы литой прочней...» (Exegi monument aere perennius...).
Гораций в русских переводах
Неоднократно «Памятник» Горация переводили, а еще чаще перелагали на собственный лад русские поэты, в том числе Пушкин. Точный перевод горацианского оригинала позволяет увидеть, что каждый из них добавлял от себя, в чем видел свою заслугу перед поэзией на родном языке, отталкиваясь от мысли римского поэта:Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушат и ряд
Нескончаемых лет — время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Назван буду везде — там, где неистовый
Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,
Первым я приобщил песню Эолии
К италийским стихам. Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись и, благосклонная,
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.
Перевод С. Шервинского
Аквилон — северный ветер. Жрец верховный ведет... — описание ежегодного обряда, совершаемого на Капитолийском холме с мольбой о благополучии Рима. Авфид — река в Апулии, той местности, где родился Гораций. Давн — легендарный царь Апулии. В Дельфах был центр поклонения богу Аполлону.
Гораций полагает своей заслугой то, что первым он «приобщил песню Эолии / К италийским стихам...». Иными словами, он первым передал на латыни звучание греческой поэзии, Сапфо и Алкея (уроженцев Эолии).
Разве Катулл до него не подражал Сапфо, не перекладывал в свои стихи ее страсть и ее образы? Что касается страсти, то ее нет даже в Горациевых любовных стихах. В любви, как и во всем, Гораций чуждается крайностей, хотя порой у него и прорывается неистовый голос страсти, напоминающий стиль Катулла. Гораций не столько любит, сколько увлекается и каждой новой возлюбленной: Лике, Лиде, Хлое — напоминает, что легко воспримет неудачу и попытает счастья в другом месте.
Так что если в смысле страсти Катулл и превосходит Горация, то не в смысле стиха. Горация увлекло разнообразие греческой поэзии. Он первым использовал все богатство ее звучания, ее форм и размеров на латинском языке. Гораций оказался в отношении греков победителем-учеником, чьими победами и движется культура.
Единственная подлинная страсть Горация — сама поэзия. Ей он предан безраздельно. Законы ее искусства он формулирует и устанавливает собственными стихами для будущих поколений.
Гораций умел быть естественным и непринужденным, но ровно настолько, чтобы не перейти грань, не показаться болтливым. Он знал любовь, но лишь настолько, насколько она не противоречила его жизненному идеалу — разумному покою. Во всем ему сопутствовало чувство «золотой середины» — и в жизни, и в творчестве.
«Золотая средина» — это далеко не то же самое, что идеал «умеренности и аккуратности». Она потому и золотая, что обладающий ею владеет безусловной ценностью. Ему открывается все пространство жизни, ему доступно многое, но ровно настолько, чтобы излишек не испортил удовольствия, чтобы вкус жизни не оставил горького послевкусия. Такова нравственная позиция.
Что же касается восприятия, то поэт классического склада смотрит вокруг себя, как будто не замечая случайного и сиюминутного. Его взгляд принадлежит не только ему лично, но и каждому человеку, всей культуре, в которой он воспитан.
Сравним Горация с поэтом, ему близким и ему следующим, но в другой культурной эпохе, — с Г. Державиным. У Державина есть ода на смерть графини М. А. Румянцевой. Ее первая строфа представляет собой вольное переложение одной из од Горация.
Державин берется за перо не с тем, чтобы оплакать умершую, а чтобы утешить живущих напоминанием о ее славной жизни. А смерть — это неизбежность, но не конец самой жизни:Не беспрестанно дождь стремится
На класы с черных облаков,
И море не всегда струится
От пременяемых ветров;
Не круглый год во льду спят воды,
Не всякий день бурь слышен свист,
И с скучной не всегда природы
Падет на землю желтый лист.
Класы — архаический вариант слова «колосья». Когда Державин пишет оду, он нередко любит щегольнуть архаизмом и тем самым приподнять тон, подчеркнуть важность своего высказывания. Так он понимает одический стиль, но все равно чувствует себя в нем непринужденно, свободно, проговариваясь по-пушкински легкими в своей звучности строчками: «Падет на землю желтый лист...»
Совсем иначе звучит этот горацианский текст в точном переводе:Не век над полем небу туманиться,
Не век носиться ветру над Каспием,
Кружа неистовые бури;
И не навек, дорогой мой Вальгий,
Окован стужей берег Армении;
И под Бореем, веющим с севера,
Гирканский дуб не вечно гнется;
Вязам недолго знать платье вдовье.
Перевод Т. Казмичевой
Что есть у Горация и что опустил Державин? У Горация взгляд принимает географический размах. В поле зрения попадает не просто осенний пейзаж, а увиденный с птичьего полета весь круг Средиземноморья, до берегов Каспия, до гор Армении, до плодородной Гиркании.
География окинута взглядом, исполненным мифологической памяти. Зиму несет северный ветер — Борей. На небе — в следующей строфе — взойдет Веспер (вечерняя звезда).
Мифология одухотворяет пространство, укрупняет в своей единственности каждый предмет, создавая в поэзии Горация то впечатление, которое великий немецкий поэт Гёте назвал «жуткой вещественностью».
Здесь все вечно, кроме человека. Но и о нем не следует печалиться слишком долго. Он продолжает жить в славе своего народа, в его памяти, в его пространстве.
Римская классика, на зависть последующим векам, достигла небывалого равновесия — между обществом и природой, между личностью и культурой. В этом мире любовь была одним из искусств, составляющих главное, чем должен был овладеть человек, — искусством жить, будучи гражданином и не изменяя самому себе.
Круг понятий Классика:
всеобщность выражения
«жуткая вещественность»
жанр зрелость
«золотая середина»
вкус
Темы для докладов и сочинений
Что такое классика? Почему и в каком смысле это слово применимо к литературе Древнего Рима?
Был ли Пушкин классиком по типу своего художественного сознания? И возможен ли этот тип творческого поведения в современной литературе?
Сравните текст Горациева «Памятника» с державинским и пушкинским. Что русские поэты сохранили из образов оригинала? Что было ими переосмыслено?
Как чувство «золотой середины» проявило себя в художественном вкусе и в нравственном чувстве у Горация?
Литература
Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. — М., 1970.
Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской культуре // Культура Древнего Рима. В 2 т. T. 1. — M., 1985. — C. 300—335.
Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М., 1993.
Урок по Средним векам
КУРТУАЗНАЯ ПОЭЗИЯ
Куртуазность
Местом действия куртуазной культуры был замок. Первоначально он представлял собой военное укрепление, но постепенно вокруг центральной башни (донжона) складывалось сложное архитектурное и жизненное пространство. Начиная с XI в. сотни каменных твердынь вырастают по всей Европе. Замок — символ зрелого Средневековья, выражавший его во всей полноте, цельности и в то же время таивший наибольшую угрозу этой цельности. Смысл парадокса в том, что каждый замок претендовал быть замкнутым в себе, законченным миром, воспроизводившим его во всех деталях и иерархических подробностях. За замковыми стенами каждый феодал превращался в верховного правителя, осуществлявшего и духовную и мирскую власть. При том что натуральное хозяйство было самодостаточным, связи с внешним миром могли легко слабеть и на какое-то время вовсе прерываться.
Возникшие для войны и обороны, укрепившиеся в качестве хозяйственных центров, замки дали рождение культуре придворной, или, если назвать ее романским словом, куртуазной.
Куртуазность (куртуазия) (courtois — франц. учтивый, вежливый; от cour — двор) — сложный ритуал отношений и нравственных качеств. В нем свод правил придворного этикета сопряжен с нравственным идеалом, поскольку идеальный придворный рисовался человеком, для которого внешняя утонченность поведения была бы образом внутреннего совершенства.
Центром этой жизни в замке и источником поэтического вдохновения становилась хозяйка замка. Жизнь женщины за зубчатыми стенами была исполнена досуга и одиночества во время частых отлучек мужа — на войну или на охоту. Досуг заполнялся молитвой, мечтой, чтением. В таком сочетании развивалась душевная склонность к мистике, к предчувствию и ожиданию тайны, раскрывавшейся в образе любви. Любимым писателем XII в. стал древнеримский поэт Овидий, чья «наука страсти нежной» переводилась, внимательно штудировалась и даже была положена в основу своеобразного пособия «О любви», составленного в 80-х гг. того же XII в. Андреем Капелланом, названным так, потому что он был капелланом, т. е. придворным священником французского короля.
Впрочем, это было не началом, а скорее подведением итогов новой культуры, выразившей себя прежде всего в куртуазной поэзии, насчитывавшей уже несколько десятилетий. Подобно готическим соборам, замки, вознесшие свои башни к небу, как будто символизировали устремленность средневековой культуры вверх, к христианскому Богу, требовавшему не только послушания, но и любви. Так что в самой вере явилось оправдание нового чувства. Сложнее было оправдать смену объекта — от Бога к женщине, от небесного к земному. Для этого потребовалось пересмотреть традиционно церковное отношение к женщине как к греховному «сосуду», некогда ставшему причиной первородного греха и изгнания из рая. Даже Андрей Капеллан, посвятивший две первые части своего пособия восхвалению любви по Овидию, в третьей перечисляет женские пороки. Формально он как будто продолжает следовать античному автору, его рекомендациям, как излечиться от любви, но теперь аргументы и стилистика Андрея Капеллана звучат в согласии с традиционно-средневековой моралью. Человек привык жить в двух измерениях, в двух системах ценностей, и именно куртуазной поэзии предстоит стать ареной их небывало глубокого взаимопроникновения, обожествления земного через любовь.
В момент, когда культура выходит из состояния безличности, логично ожидать, что именно лирический жанр, обращенный к человеческой душе, должен стать провозвестником духовного обновления. Так и происходит: здесь мы находим идеально выраженным строй чувств, состояние души, утонченной любовью. Только утонченную любовь (fin amour) полагали истинной. Если отношение к женщине — один из важнейших показателей развития общества, то куртуазная поэзия — свидетельство если не того, каким было это общество, то того, каким захотело себя увидеть.
Круг понятий Куртуазия:
замок
идеальный рыцарь культ прекрасной дамы
божественное и земное
Поэзия трубадуров
Название поэзии произведено от того, как на провансальском наречии называли поэта — трубадур.
Трубадур — значение этого слова не вполне ясно. По-видимому, оно «связано не только с обычным значением слова trobar — находить (в значении „изобретать“, „находить новое“), но и с узкоспециализированным позднелатинским глаголом (con)-tropare со значением „сочинять тропы“, т. е. неканонические вставки в литургические гимны, исполнявшиеся во время церковной службы. Такое происхождение слова „трубадур“ обнаруживает непосредственную связь провансальской лирики со средневековой латинской литургической поэзией...» 1
Как тесно общающимися между собой оказываются разные культурные типы: куртуазная поэзия подготовлена внутри церковной службы, предсказывая лирическое обожествление как основной смысловой тон в трактовке любви. Куртуазная поэзия тоже прославление: она превозносит небесные достоинства прекрасной дамы.
Еще одно название этой поэзии — провансальская. Прованс — историческая область на юге Франции. Там и сложилась особая культура, свой языковой диалект, слышимый и в самом слове «трубадур», ибо на севере поэтов будут называть труверами в соответствии с произношением того же глагола trouver, как он произносится и в современном французском языке2.
На юге Франции пересекаются пути многих культурных влияний. Здесь близко от Италии, с ее неискоренимой памятью об античности, напоминающей о себе не только развалинами амфитеатров и акведуков. Из завоеванной арабами Испании долетает дыхание восточной поэзии с ее чувственным восторгом, с ее музыкальностью. И к тому же в Провансе лишь номинальной была власть французской короны, здесь царил дух рыцарской вольности, ценили собственное достоинство и духовную независимость. Большие права признавались и за женщиной, вплоть до прав юридических: она могла лично наследовать земельную собственность, завещать ее и передавать в дарение. А именно в отношении к земле в Средние века был закреплен статус личности.
Богатство и вольность Прованса послужат его гибели, когда по призыву Папы Иннокентия III правоверные христиане в начале XIII в. поднимут крестовый поход, дабы искоренить альбигойскую ересь, а вместе с ней и всю цветущую там культуру. Расцвет ее оказался недолгим — чуть более столетия, но след остался неискоренимым, ибо на этой сравнительно необширной территории и за невеликий срок совершилось поистине великое дело. «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции, — писал А. С. Пушкин, — рифма отозвалась в романском языке…» («О поэзии классической и романтической»).
Итак, где бы эта поэзия ни возникла и как бы мы ее ни называли, она явилась в небывалом звуковом облачении: она подарила европейской поэзии нового времени рифму (которая до тех пор если время от времени и возникала, то лишь как украшение в прозе). И одновременно с этим, скажет дальше Пушкин, «трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну...».
Войну пел и старый эпос, но совсем иначе. Изменился и характер военного подвига, и его мотивировка. Герой теперь ищет сражения, чтобы, совершая подвиги, добыть честь в служении своему сюзерену и любовь в служении прекрасной даме. Любовь вдохновляла на бой, придавая ему ту прелесть, которой он никогда не окрашивался в суровом эпосе. Кроме того, что сражение обещало подвиг, оно сулило «авентюру», завершающуюся любовным свиданием.
Характер куртуазной любви
Никогда еще любовь не воспринималась в таком остром соперничестве и нерасторжимом единстве двух начал — духовного и телесного. Человеческий дух, к этому времени прошедший уже тысячелетнее воспитание христианством, любовью к Богу, был подготовлен к тому, чтобы перенести божественный восторг на земное и человеческое.
В большой мере оставляя войну для жанра рыцарского романа, трубадуры пели любовь, бряцая вновь открытыми рифмами (не случайно их как самую заметную черту отмечает Пушкин). Рифма изменила ритмическую структуру стиха, а значит, его выразительные возможности. Каждая строка становится более отчетливо отделенной от других. Она превращается в музыкальную фразу, то мерно пульсирующую, то, наоборот, перехлестывающую через границы установленного размера. Трубадуры полюбили возможности музыкальной игры. В своем большинстве они были не только поэтами, но и композиторами, часто исполнителями своих стихов-песен, хотя еще чаще передоверяли это дело профессиональному певцу — жонглеру.
Новая поэзия была песенной и музыкальной. Ее основной жанр так и называется — кансона, т. е. песня. Около двух с половиной тысяч стихотворений трубадуров дошло до нас. Из них около тысячи — кансоны, пятьсот — версы, представляющие как бы упрощенный, укороченный до одной строфы вариант того же жанра. В кансоне их количество могло меняться, но строфичность была обязательной: однажды установленный рисунок сохранялся и бывал повторен из строфы в строфу, из куплета в куплет.
Еще пятьсот стихотворений из общего числа составляли сирвенты (или, иначе, сирвентес). В отличие от любовных кансон они писались на любой сюжет: бытовой, сатирический, военный — и часто использовали уже известную мелодию, что создавало дополнительный пародийно-комический эффект. Оставшиеся приблизительно пятьсот стихотворений приходятся на все остальные жанры поэзии трубадуров. Их система окончательно сложилась в пору расцвета, к 1170 г.
Поэтическая любовь — сложный ритуал, и разные его моменты, настроения призваны обслуживать различные жанры. Альба — песня утренней зари, которая заставляет влюбленных расстаться.
Вспомните сцену расставания Ромео и Джульетты (акт IV, сцена 5), когда они спорят, голос какой птицы им слышится — соловья или жаворонка. Их диалог представляет собой вариацию альбы, которая (особенно в немецкой поэзии миннезанге) нередко являла собой обмен речами.
Плач — похоронная песнь на смерть сюзерена, прекрасной дамы или собственной надежды на счастье. Пастурелла поет чувство влюбленных, скрывшихся под видом прекрасных пастушков. Баллада — плясовая песнь.
И наконец, тенсона — спор, иногда действительно состоявшийся между двумя поэтами, иногда воображаемый одним из них. Спорили чаще всего о главном — о любви, войне и, конечно, о поэзии: какой ей быть? Открытой, доступной или сложной, изощренной? Аргументы в пользу каждого из двух стилей — в знаменитой тенсоне, воспроизводящей спор двух трубадуров: Гираута де Борнейля, выступающего под собственным именем, и знатнейшего сеньора Рамбаута д’Ауренги, скрывающегося под псевдонимом Линьяуре — по названию одного из своих поместий. Первый — сторонник «светлого», второй — «темного» стиля. Линьяуре не видит смысла Трудиться, зная наперед,
Что труд усердный попадет
Не к знатокам,
А к простакам,
И вдохновенных слов поток
В них только вызовет зевок!
Перевод В. Дынник
Открытость страшит Линьяуре опасностью подорвать достоинство поэзии, предав ее в руки профанов, а значит, унизить и достоинство любви. Священное чувство не должно быть достоянием непосвященных, и многие трубадуры зашифровывают его множеством образных иносказаний, намеков, скрывая любовь в сложности самого образного языка.
Тогда возникает другое опасение: преданное условным формам, не станет ли и само чувство условностью? Пушкин знает эту опасность и, говоря о трубадурах, сетует по поводу возникающей у них «натяжки выражения», «жеманства» и даже по поводу того, что «мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться триолетами» (одна из строфических форм, возникших вслед начатому трубадурами формальному изыску).
Зрелая культура неизбежно страдает оттого, что форма отношений, поведения, самой жизни становится привычной. Иное дело — культура первого созидания, открытия форм и вещей, еще лицом к лицу стоящая с хаосом, мечтающая победить его совершенством делания. Такой и была культура раннего Средневековья. На исходе ее широко возникают города, а в них — торговля, образование, ремесла. Во главе каждого ремесленного цеха — мастер, каковым можно было стать, лишь достигнув профессиональной высоты. Он мастер не по одному лишь положению, а Мастер по существу. Цеховое законодательство контролировало уровень профессионализма. Мастер — тот, кто поднимается над этим уровнем и поднимает его за собой. Существует культ мастерства, совершенного деяния, позволяющего преодолеть бесформенность дикой природы и взойти к совершенству формы.
Это и есть «побежденная трудность», доставляющая высшее наслаждение, ибо в ней нравственное оправдание своего дела. Трубадур не был ремесленником. Его профессия принадлежала более высокой сфере деятельности — свободным искусствам, но в высшем смысле он тоже Мастер, профессионал. Изощренность формы — его личное клеймо, удостоверяющее совершенство. Восхождение по ступеням совершенства — важнейшая средневековая идея.
Средневековая жизнь была строго иерархична во всех отношениях: и в социальном, и в духовном. Путь достойной жизни пролегал по вертикали — от грешной земли к благому небу. Одним из чувств, побуждавших к подвигу восхождения, была любовь к Богу. Актом Божественной любви и сострадания к человеку была жертва Христа, и человек откликался ответной любовью. Особую теплоту вере придавал культ Богородицы, Мадонны — Матери Христа.
Куртуазия приземляет христианскую любовь — теперь любят Донну, однако не забывая начала этой любви, ее божественного источника. О куртуазной любви лучше всего сказать, что она разнообразна, и это будет не банальностью, а свидетельством ее новизны. Она столь же разнообразна, как и поэтические истоки, к которым ее возводят: в ней есть родство не только с литургической христианской поэзией, но и с фольклорной песней, отзывающейся майским зачином во многих стихотворениях трубадуров: духовный восторг смешивается с радостью весеннего пробуждения природы.
Джауфре Рюдель владел искусством «любить издалека», о чем и поведал в стихах. Об этом же сохранилось свидетельство в его жизнеописании. Сам факт существования таких жизнеописаний трубадуров, которые начали составлять уже в их время, свидетельствует о том, что современники угадали в них то разнообразие личности и биографии, которое сочли достойным памяти.
В случае с Рюделем условность куртуазного поклонения прекрасной даме, о достоинствах и красоте которой он знает лишь по слухам, становится чувством, которое до конца владеет им. Иное отношение к жизни и поэзии у того, кто известен под именем первого трубадура, во всяком случае он тот первый, чье имя и стихи дошли до нас, — Гильем, граф Пуату, герцог Аквитанский (1071—1126). Знатнейший сеньор, чьи владения превосходили личные владения французского короля, он, как сказано в его жизнеописании, «немало постранствовал по белу свету, повсюду кружа головы дамам». И даже когда в предчувствии смерти он вручает себя Богу, Гильем не хочет, чтобы друзья забыли о нем прежнем, веселом и любвеобильном:Все оставляю, что любил:
Всю гордость рыцарства, весь пыл...
Да буду Господу я мил,
Все остальное — только тлен.
Но вспомните, когда умру,
Друзья, на траурном пиру
То, как я весел был в миру —
Вдали, вблизи, средь этих стен.
Скитальца плащ с собой беру
Собольей мантии взамен.
Перевод A. Наймана
Как видим, куртуазная любовь бывает вполне откровенной, впрочем, не только в отношении прошлого. В стихах нередко звучит голос страстный — признание, а еще чаще — страдание из-за неразделенного чувства, жалобы оставленного влюбленного. Признано, что среди наиболее эмоционально достоверных и откровенных стихов — те, что написаны женщинами. Одна из самых прославленных среди них — графиня Диа.
У такой любви были свои излюбленные состояния. Может быть, более всего вдохновлялись недоступностью любви, о чем и в кодексе Андрея Капеллана сказано: «Легким достигновением обесценена бывает любовь, трудным восходит в цену»3. Как будто сладкая боль страдания делала чувство более сильным и непосредственно переживаемым, а любовь к любви влекла трубадуров не менее, чем любовь к любимой. Сама возможность переживания воспринималась как откровение, свидетельствующее о духовной глубине человеческой души и ее красоте. Прекрасное хотелось пережить столь же прекрасно в слове.
Какой быть любви и поэзии? Спор начали сами трубадуры. От поэзии требовали совершенства, различно истолковывая это требование. От любви — утонченности: «Кого безмерное томит сладострастие, тот не умеет любить» (Андрей Капеллан). Но где мера, насколько допустимо чувственное? Об этом опять же спорили, как и о многом другом. Пробужденная личность была склонна к тому, чтобы отстаивать свое мнение. Не случайно диалогический жанр тенсоны занял важное место в системе форм провансальской поэзии.
Спорили, подвергая сомнению даже самое главное, из чего и ради чего эта поэзия родилась, — любовь. Так, в жизнеописании Маркабрюна сказано: «Был он одним из первых трубадуров, о коих сохранилась память. Песни слагал он не бог весть какие и сирвенты неважные, злословя женщин и любовь». Видимо, это злословие и вызвало пренебрежительную оценку его поэзии, коей он не заслужил, будучи едва ли не основоположником «темного» стиля, т. е. образности самой изощренной и мастерской.
Для кого-то вся жизнь становилась спором, а точнее, распрей. Никто не преуспел в этом более, чем Бертран де Борн. Авторы жизнеописаний не забывают помянуть его достоинства: «Был он муж благовоспитанный и куртуазный...», «...сведущий в законах вежества и сладкоречивый, равно рассуждать умевший о добре и худе». Но запомнилось и другое: «Был у него, однако, такой обычай, что постоянно подстрекал он сеньоров к междоусобным браням, а Короля-юношу, сына короля Английского, до тех пор возбуждал к войне против отца, пока тот не был убит стрелой в одном из Бертрановых замков»4.
Не все, что о нем передается, точно и справедливо, но репутация сложилась вполне определенная, устойчивая, вплоть до Данте, который спустя два века поместит Бертрана де Борна в аду с отрубленной головой за то, что при жизни он расторгал родственные и дружеские узы.
Поэзия и жизнеописания трубадуров сохранили огромное разнообразие художественного стиля и личности, может быть, впервые ищущей того, что мы называем самовыражением. От неугомонного и непримиримого Бертрана де Борна до влюбленного «издалека» Рюделя и немецких поэтов — миннезингеров (от Minne — любовь и Singer — певец), боготворящих любовь как святыню. Отсюда открывается дальнейшее восхождение: через любовь к тайне мира, которое совершит Данте вслед Беатриче; к вечной женственности — Фауст у Гёте или Блок в стихах о Прекрасной Даме.
О куртуазной любви лучше всего сказать, что она разнообразна, и это будет не банальностью, а свидетельством ее новизны. Она разнообразна, ибо совмещает крайности духа и плоти, не отвергая ни одной. Она разнообразна, ибо может существовать в любом моменте восхождения от чувственного удовольствия к духовному совершенству. Наконец, она разнообразна, ибо зависит от личности поэта. Один выбирает платоническую любовь, другой не скрывает пережитой страсти и стремится к новой радости...
Провансальская поэзия кончилась вместе с Провансом в самом начале XIII столетия. Последние трубадуры перебрались на север Франции или в Италию, где и подтолкнули развитие национальных традиций.
Круг понятий Культ любви:
платоническая или чувственная
утонченная любовь
Культ формы:
рифма
условность
«темный» и «светлый» стили ритуал любви
«любовь издалека»
мастерство
«мелочное остроумие»
Проверка памяти
Термины: трубадур, альба, тенсона, сирвента, кансона.
Имена: Андрей Капеллан, Иннокентий III, Бертран де Борн, Гильем Аквитанский.
Вопросы
Каковы истоки куртуазной лирики? Почему одно из ее названий — провансальская?
Что нового дали трубадуры в трактовке вечной темы любви?
Что сделано трубадурами для развития стиха?
Был ли куртуазный идеал личности сословно ограниченным, в какой мере? Стал ли он явлением общекультурного значения и достоинства?
Что имел в виду Пушкин, говоря о «мелочном остроумии» и о «побежденной трудности»?
Литература
Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов / вступ. ст. Б. И. Пуришева; прим. к данному разделу Р. М. Фридман. — М., 1974. — (Б-ка всемирной литературы).
Книга песен: из европейской лирики XII—XVI веков. — М., 1986.
1 М е й л а х М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. — М., 1993. — C. 508.
2 В поисках названия для этой поэтической традиции французские ученые сто лет назад остановились на термине, связанном именно с особенностью южного диалекта французского языка: poésie occitane. Оно образовано от слова «ос», как в Средние века на юге произносили «да» вместо северного «oil» (современное «oui»). Такое произнесение было распространено к югу от Луары по всей области, уже в XIII в. известной как «langue d’oc». Термин «poésie occitane» принят сейчас во многих языках, будучи более географически и культурно точным, чем термин «провансальская поэзия».
3 Жизнеописания трубадуров. — С. 400.
4 Жизнеописания трубадуров. — С. 53.
Урок по эпохе Возрождения
ЭПОХА ТРАГИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА. У. ШЕКСПИР. «ГАМЛЕТ»
Принято считать, что термин «трагический гуманизм» возник у философа Н. А. Бердяева в знаменательный момент — в 1918 г. и был им применен к Достоевскому, воплотившему его как извечный принцип равновесия в мире Добра и Зла, их нескончаемой борьбы, которая не может быть завершена, но сама по себе дарит герою чувство очищения, трагического катарсиса.
В отношении позднего Возрождения это понятие было применено в работах А. А. Смирнова1: трагический гуманизм предполагает прежде всего не трагедию гуманизма (подобную той, что переживет XX в.), не разочарование в нем, а разочарование в воплотимости идеала. Идеальное окончательно осознается как утопическое, что не отменяет для человека потребности осуществить желаемое и нравственно необходимое, окрашивая деяние в тона самоотверженного героизма.
Из этого ощущения развился мир шекспировской трагедии.
Трагедия мести и медлящий герой
Трагедия «Гамлет» написана около 1600 г. Опубликована: «пиратское издание» в 1603 г.; авторский текст в 1604 г. Вот уже четыреста лет зрители, читатели, исследователи разгадывают ее загадку.
Первые зрители трагедии в театре «Глобус» едва ли подозревали, сколько труда будет положено на разгадывание гамлетовской тайны. Заметили ли они ее? Чем их мог заинтересовать «Гамлет»? Не преувеличивая, можно сказать, что «Гамлет» должен был восприниматься как едва ли не боевик тогдашней эпохи. Во всяком случае, он был написан в самом «крутом» и любимом жанре — «трагедии мести». Крови лилось не менее, чем на петушиных боях. Трупы падали направо и налево...
Как легко этот сюжет переделать в современную историю о мафиозных разборках! Так иногда и делают. Существует фильм по другой трагедии — «Ромео и Джульетта», помещенный в декорации современного города с небоскребами, лимузинами. Монтекки и Капулетти — две итальянские семьи, причем слово «семья» приобретает уже современный смысл — клан вроде мафиозных Корлеоне, в котором старейшины выступают в качестве крестных отцов.
Большинство первых зрителей наверняка были увлечены интригой. Но ведь кто-то, вероятно, смог оценить небывалое по новизне качество человеческой личности. Завершая свое знаменитое эссе о трагедии, влиятельнейший английский поэт и критик нашего века Т.-С. Элиот скажет о том, что таинственность трагедии обусловлена не проблемой, оказавшейся не по силам герою, как многие полагают, а проблемой, оказавшейся не по силам Шекспиру. Можно сказать, что в этом его слабость, поскольку стройность традиционной формы нарушена вторжением нового героя. Но можно сказать иначе, что в этом гениальность Шекспира: в «Гамлете», как нигде, он угадывал нечто небывалое и нечто уводящее вперед — на века.
Заслуга самого Т.-С. Элиота состоит в том, что вопреки распространенной привычке толковать характер Гамлета он начинает свое эссе с утверждения, что «пьеса „Гамлет“ — первостепенная проблема, а Гамлет как характер — только второстепенная» (1919)2. Типичная ошибка — попытаться понять характер героя, подходя к нему как к живому человеку. А герой живет в произведении, вне которого не может быть понят.
Итак, если Шекспир и загадал загадку, то разгадывать следует не Гамлета, а «Гамлета». Но есть ли в пьесе загадка?
Пожалуй, в любой современной аудитории стоит не оставлять этот вопрос без ответа как риторический. По собственному опыту скажу, что ученику или студенту «Гамлет» представляется куда менее загадочным, чем поколениям его исследователей.
Вечный вопрос в данном случае: почему медлит Гамлет с исполнением мести? Прежде чем ответить на этот вопрос, зададим другой: «А откуда нам известно, что он медлит?» От самого Гамлета, казнящего себя, побуждающего себя к действию, имя которому...
Гамлет хорошо знает его. Завершая второй акт, герой наконец возбудит себя настолько, что произнесет нужное слово и как будто в нужном тоне. Произойдет это в монологе после сцены с актерами, готовыми сыграть перед королем-узурпатором Клавдием изобличающую его пьесу. Для полноты сходства событий с убийством его отца Гамлет допишет несколько строк, и «мышеловка» будет готова. Договорившись о ее исполнении, Гамлет остается один, вспоминает актера, читавшего ему монолог, восхищается сыгранной тем страстью, хотя, казалось бы, «что он Гекубе? Что ему Гекуба?». Но это достойный пример для подражания ему, Гамлету, имеющему действительный повод потрясти небо и землю. А он, сын убитого отца, медлит, когда ему следует возопить: «О мщенье!»
Вопросы для обсуждения
Откуда мы знаем, что Гамлет медлит?
Что заставляет героя мстить — чувство чести или что-то иное?
В чем видит свою цель Гамлет и достижима ли она через месть?
И наконец, почему медлит Гамлет?
Гамлет вырвал наконец у себя это слово, произнеся его на пределе пафоса и голоса, чтобы тут же одуматься и одернуть себя: «Ну и осел я, нечего сказать». Английские актеры, доходя до ключевого слова, нередко впадают в неистовство, почти в истерику, чтобы затем, сделав мертвую паузу, как будто придя в себя, с холодным презрением к самому себе прервать словоизлияние и от страсти вернуться к мысли о том, как «заарканить совесть короля».
Гамлет откровенно идет на разрыв с традиционной ролью, не умея и, как оказывается, не желая выступить привычным публике героем-мстителем, тем более что эту роль есть кому сыграть. Показать ее в исполнении превосходно может актер, участвующий в «мышеловке», а непосредственно воплотить — Лаэрт, Фортинбрас... Линия каждого из них — параллельный сюжет к основному трагическому действию. Гамлет готов восхититься их решимостью, их чувством чести, но не может не ощущать бессмысленности их деяний: «Двух тысяч душ, десятков тысяч денег / Не жалко за какой-то сена клок!» (акт IV, сцена 4; перевод Б. Пастернака).
Так Гамлет откликается на поход Фортинбраса в Польшу. Фортинбрас — человек рыцарской чести, а не расчета, не мысли, которая сковывает решимость.
Кто или что побуждает действовать Гамлета?
У каждого жанра свой угол зрения на мир, своя философия. Почему обязательно мстить? Мы ошибемся, если предположим, что с точки зрения трагического жанра дело это исключительно личное. Совсем не личное.
Трагедия мести
Закон этого жанра провозглашает хор в первой английской трагедии «Горбодук» (написанной и поставленной в 1561 г. в назидание только что вступившей на трон Елизавете): «...кровь требует крови, а на смерть следует ответить смертью, ибо так в этом по справедливости установленном вечном мироздании справедливо потребовал Юпитер».
Такова Божественная справедливость, воплощенная мировым законом, который может быть подорван: если кому-то причинено зло, значит, зло причинено всем — зло проникло в мир. В акте мщения восстанавливается гармония. Отказавшийся от мести выступает соучастником ее уничтожения. Таков закон, от которого дерзает отступить Гамлет. Зрители той эпохи понимали, от чего он отступил в своей медлительности. И сам Гамлет хорошо знает роль мстителя, которую ему никак не удается сыграть.
Хотя в шекспировских пьесах деление на акты принадлежит издателям посмертного Первого Фолио (1623), но писал Шекспир, имея в виду эту установившуюся со времен поздней античности формальную композицию. На конец первого акта у него обычно приходится рифмованное двустишие с эпиграмматически точной формулировкой героем или кем-то из персонажей сложившейся ситуации и возможности ее развития в дальнейшем. Гамлет знает, сколь трудное дело возложено на него, и, завершая первый акт, произносит знаменитые слова: «Порвалась связь времен; о, проклят жребий мой! / Зачем родился я на подвиг роковой!»
Так звучит этот текст в переводе К. Р. (великого князя Константина Романова). Именно этот вариант перевода стал особенно известным и вошел в память русского языка. О «связи времен» так или иначе Гамлет говорит в разных переводах: от А. Кронеберга в первой половине прошлого века до Б. Пастернака. Однако, как и в ряде других случаев, наиболее точен М. Лозинский: «Век расшатался — и скверней всего, / Что я рожден восстановить его» («The time is out of joint. O, cursed spite, / That ever I was born to set it right»).
Гамлет знает, для чего он рожден, но найдет ли силы исполнить свое предназначение? И вопрос этот относится в общем не к его человеческим качествам: силен он или слаб, вял или решителен. Чтобы ощущать необходимость акта мести, нужно мыслить себя необходимой и важной частью мирового порядка. А Гамлет уже иной...
Вся трагедия «Гамлет» есть не только разрыв со старым жанром и старой моралью, но и взгляд в будущее. Небывалая новизна и достоинство героя в том, что, размышляя о необходимости поступка, он взвешивает его последствия, его смысл и как бы предощущает то, что мы можем назвать нравственной ответственностью... Быть может, произнося это слово, мы торопим события, с нравственной прямолинейностью договариваем тот смысл, который в своей метафоре спрятал Д. Самойлов: «...И глядит в перископ времен».
Л. Е. Пинский афористично назвал Гамлета первым «рефлектирующим» героем мировой литературы. Первым, у кого мысль возобладала над способностью действовать. То, что нравственное размышление сковывает волю и действие, знают и другие герои Шекспира. В первом акте «Ричарда III» убийца, подосланный к герцогу Кларенсу, говорит о совести, превращающей его в труса; в пятом акте о том же скажет король Ричард. Они выбрали поступок и злодейство. Гамлет выбрал мысль, сделавшись «первым рефлектирующим», а через это — первым героем мировой литературы, пережившим трагедию отчуждения и одиночества.
Отчужденный от мира, он уже внутренне не верит, что его единственный удар что-то способен решить в мировой гармонии, что ему, независимо от того, слаб он или силен, в одиночку дано «вправить вывихнутое Время». Осознание своего отношения к миру всего труднее дается герою, поскольку это и есть проблема небывалой сложности и небывалой новизны. Вся трагедия — процесс осознания этого отношения как для героя, так и для автора.
Катастрофично именно отчуждение Гамлета, нарастающее по ходу действия. На наших глазах довершается разрыв связей с прежде близкими людьми, с прежним собой, со всем миром представлений, в котором он жил, с прежней верой, с теми, кого любил...
Гамлет и другие
Вопросы для обсуждения
Что такое «параллельное действие» у Шекспира? Какова его роль?
Полоний — злодей или нет? Как его отношения с Лаэртом оттеняют трагический сюжет?
Предполагает ли трагедия ответ на вопрос: любил ли Гамлет Офелию? А она его?
В чем сходство Розенкранца и Гильденстерна с Добчинским и Бобчинским? Можно ли сказать, что судьба этих двух придворных трагична?
Впервые Гамлет молчаливо появляется в парадной зале замка Эльсинор среди других придворных, выслушивающих речь нового короля Клавдия, его дяди. Клавдий напоминает о недавней смерти своего брата — старшего Гамлета, о последовавшей за ней своей свадьбе с его вдовой и благодарит придворных за то, что их мудрость была в этом деле ему пособницей (I, 2). Затем король переходит к решению дел. Первое связано с известием о том, что норвежский принц Фортинбрас готовит вторжение в Данию. Второе более мирное: дозволение сыну Полония — Лаэрту возвратиться во Францию. Оба этих дела касаются молодых людей, чья судьба в трагедии составит параллельный сюжет к главному — мщению сына за своего отца.
Первоначально Гамлет не знает, что у него есть повод мстить. Он скорбит об умершем отце, печалится по поводу слишком поспешной свадьбы матери. Его настроение и склад ума, как часто бывает с трагическими героями Шекспира, сказываются уже в первой фразе. На обращение к нему короля-дяди: «А ты, мой Гамлет, мой племянник милый...» — отчужденно репликой в сторону Гамлет откликается: «Племянник — пусть; но уж никак не милый». В оригинале едкость шутки Гамлета подчеркнута каламбуром: «A little more than kin, and less than kind!», означающим, что Гамлет сомневается в искреннем расположении к нему Клавдия, который в то же время для него более чем родственник, ибо теперь он ему и дядя, и отчим. Свойственное Гамлету горькое остроумие и чувство отчужденности при датском дворе он подтвердит тотчас же своей второй репликой, уже открыто обращенной к королю в ответ на его вопрос: «Ты все еще окутан прежней тучей?» — «О нет, мне даже слишком много солнца». Солнце — традиционная метафора королевской власти. Гамлет сожалеет, что он стоит к ней слишком близко.
Однако отдалиться ему не удастся. В отличие от Лаэрта, которому дозволено покинуть двор после всех печальных и радостных торжеств, Гамлет, послушный просьбе матери, отказывается от мысли вернуться для учебы в университет в Виттенберг. Гамлету ясно, что король не хочет спускать с него глаз. Его опасаются, за ним следят. Это с самого начала определяет его поведение. Более чем с кем-либо еще он предпочитает откровенность с самим собой. А для окружающих он наденет маску безумия, которая, быть может, подсказана принцу его действительной душевной потрясенностью.
Вся сюжетная линия Лаэрта представляет собой, по выражению В. Гюго, «параллельное действие» к основному сюжету трагедии: Гамлет «убивает Полония, отца Лаэрта, и Лаэрт оказывается по отношению к нему совершенно в таком же положении, как он по отношению к Клавдию...» (В. Гюго. «Вильям Шекспир»).
Параллельные сюжеты, повторяющие основной сюжетный мотив, показывают, как принято поступать в Датском королевстве. Внимательный читатель, даже не будучи знаком с жанром трагедии мести, должен почувствовать необычность поведения главного героя, и не только из его собственных слов: в пьесе немало нормальных героев-мстителей. Лаэрт, Фортинбрас оттеняют исключительность основного действия, ибо исключительное и великое изображает трагедия. Посредственное и обыденное в ней нередко оказывается враждебным герою и подталкивает его к гибели. Такова роль Полония.
Полоний воплощает здравый смысл, честно отрабатывая свою роль королевского советника. Узость его понимания людей и событий обнаруживает себя уже в сцене прощания с Лаэртом (I, 3) перед посадкой сына на корабль. Полоний не преминет повторить ему несколько житейских мудростей: не болтать, но слушать; ни с кем не быть запанибрата; в ссору не вступать, но, вступив, вести себя так, «чтоб остерегался недруг»; не брать и не давать денег в долг, не франтить. После ухода Лаэрта Полоний обращает свой назидательный энтузиазм на дочь: он строго наказывает Офелии не принимать на веру любовных признаний Гамлета и запрещает ей беседовать с принцем наедине. Эти наставления Полония детям будут иметь продолжение. В следующий раз он появится с Рейнальдо, человеком, которого он посылает тайно разузнать о поведении Лаэрта в Париже (II, 1). В промежутке между этими двумя явлениями Полония, сначала поучающего сына, а затем шпионящего за ним, происходит встреча Гамлета с призраком своего отца, открывающим ему роковую тайну. Так по контрасту выстраивается параллельный сюжет отношений отец — сын.
Сцена с Рейнальдо завершается тем, что в комнату входит Офелия и взволнованно рассказывает отцу о странном поведении и виде, в котором ей предстал Гамлет. Полоний заключает, что виной безумию принца — суровость Офелии, исполняющей его отцовскую волю. С этим известием и любовным письмом Гамлета к его дочери Полоний отправляется к королю, которому, не чувствуя двусмысленности своих слов, предлагает проверить справедливость догадки: «Я дочь ему подкину в этот час, / А мы вдвоем за занавеску станем. / Увидите их встречу» (II, 2; перевод Б. Пастернака). В этой же сцене Полоний беседует с неожиданно вошедшим принцем, чьи замысловатые ответы заставляют его воскликнуть — репликой в сторону: «Если это безумие, то в своем роде последовательное».
Полоний если и не разгадал хитрости принца, то заподозрил что-то неладное. Однако понять Гамлета ему дано менее, чем кому-либо другому, и именно он становится излюбленной мишенью для шуток принца. Если узурпатор Клавдий — показное, официальное величие Дании, то Полоний — ее обыденность, ее повседневная мудрость. Трудно сказать, что опаснее для принца. В семье Полония рождается его убийца. Это логично.
Получив известие о гибели Полония, Лаэрт возвратится из Франции и во главе взбунтовавшейся толпы ворвется во дворец (IV, 5); затем, ободренный королем, соглашается на поединок с Гамлетом, в котором для большей верности предлагает воспользоваться отравленным клинком. Так вновь, уже в непосредственном столкновении Лаэрта и Гамлета, под занавес восстанавливается изначально намеченный параллелизм сюжетов: сын, мстящий за смерть отца. Лаэрт, верный семейной традиции, выступает носителем установленной морали, оттеняя неординарность поведения Гамлета в качестве героя трагедии мести, исполненного сомнений и не бросающегося очертя голову наносить ответный удар.
Во всеобщем мнении Лаэрт — «достойный юноша» (V, 1), как его вполне искренне называет Гамлет, чтобы в этой же сцене ссоры с Лаэртом на кладбище закончить ее признанием: «Я вас всегда любил».
Да, семья Полония для Гамлета источник не только противостояния, но и любви. К ней принадлежит та, кого, кажется, любил Гамлет, — Офелия. Не есть ли это с самого начала знак обреченности их отношений, окрашенных трагической иронией?
Амплитуда критических и сценических интерпретаций этого образа очень широка: от трогательного сочувствия до нравственного осуждения. Те, кто (не вслед ли Гамлету?) готов осуждать, также слышат ответ, подобный тому, что от лица Офелии дает Гамлету Марина Цветаева: «А вы с вашей примесью мела / И тлена... С костями злословь, / Принц Гамлет! Не вашего разума дело / Судить воспаленную кровь» («Офелия — в защиту королевы»).
Любил ли Гамлет Офелию? Любила ли она Гамлета? Эти вопросы постоянно сопровождают интерпретацию образа Офелии, но не имеют ответа в сюжете трагедии, в котором отношения героев не строятся как любовные. Они сказываются иными мотивами: отцовским запретом Офелии принимать сердечные излияния Гамлета и ее повиновением родительской воле (в отличие от Джульетты или Дездемоны); любовным отчаянием Гамлета, подсказанным его ролью сумасшедшего; подлинным безумием Офелии, сквозь которое словами песен прорываются воспоминания о том, что было, или о том, чего не было между ними. Если любовь Офелии и Гамлета существует, то лишь как прекрасная и невоплощенная возможность, намеченная до начала сюжета и уничтоженная в нем.
Офелия не разрывает круг трагического одиночества Гамлета, напротив, дает ему острее почувствовать это одиночество, превращенная в послушное орудие интриги и становясь опасной приманкой, на которую принца пытаются поймать. Ее судьба не менее трагична и еще более трогательна, но каждый из них отдельно встречает свою судьбу и переживает свою трагедию.
Отчужденный от семьи, от любви, Гамлет теряет веру и в дружбу, преданный Розенкранцем и Гильденстерном. Эти датские придворные, в прошлом друзья-студенты принца Гамлета, составляют неразлучную, неразличимую пару. Их абсолютное равенство подчеркнуто параллельным обращением к ним короля и королевы, когда сначала Клавдий благодарит их, называя первым Розенкранца, а затем королева повторяет формулу благодарности, подчеркнуто поменяв порядок их имен: «Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц» (II, 2). Благодарность им причитается за то, что они прибыли из Виттенберга, оставив учебу, чтобы по просьбе короля разведать тайну душевной удрученности принца: «...нет ли / Чего сокрытого, чем он подавлен...»
Принц счастлив видеть их. На какой-то миг отбросив уже привычную сумрачность, в обмене остротами с прежними друзьями он являет себя таким, каким, должно быть, он был до трагических событий. Однако его интересует, зачем Розенкранц и Гильденстерн возвратились в Данию, которая для него не только тюрьма, но и «одна из худших» (II, 2). Они вначале отшучиваются, каламбурят, отказываются признать Данию тюрьмой, полагая, что лишь непомерное честолюбие принца делает ее таковой. При этом Розенкранц произносит знаменитые слова о призрачности честолюбия: «...я считаю честолюбие по-своему таким воздушным и легким, что оно не более нежели тень тени».
Однако под напором Гамлета Розенкранц и Гильденстерн вынуждены признать: «Принц, за нами посылали». В ответ, объясняя свое состояние, Гамлет произносит монолог о своем разочаровании в человеке.
Бывшим друзьям Гамлета Клавдий даст главное и последнее для них поручение — сопровождать принца в Англию. Они, как всегда рассудительно и разумно, соглашаются и даже находят неопровержимый исторический довод, ибо, по словам Розенкранца, Клавдий не может терпеть рядом с собой безумство, грозящее его жизни: «...кончина государя / Не одинока, но влечет в пучину / Все, что вблизи; то, как бы колесо, / Поставленное на вершине горной, / К чьим мощным спицам тысячи предметов / Прикреплены... / Искони времен / Монаршей скорби вторит общий стон» (V, 3).
Из Англии им уже не суждено вернуться. Гамлет, вскрыв тайный пакет, содержания которого Розенкранц и Гильденстерн, скорее всего, могли не знать, обнаружил, что Клавдий посылает его на гибель. Принц изменил приказ, который теперь гласил о необходимости умертвить подателей сей бумаги.
В свое время Гёте заметил, что Розенкранц и Гильденстерн совершенно схожи друг с другом, потому что они представляют множество: «они — общество». Сравните с ними аналогичную пару в гоголевском «Ревизоре»: Добчинский и Бобчинский.
Розенкранц и Гильденстерн нередко понимались как символ безличной подлости, готовности услужить любой власти, не задаваясь нравственным вопросом о ее справедливости. В XX в. иная трактовка была предложена в пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн умерли» (1966), где их судьба истолковывается как трагедия обычного человека, попавшего между жерновами истории, — позиция, понятная с точки зрения современных убеждений, воспитанных на демократизме, на вере в равные права для каждого. Однако гуманизм ренессансной трагедии имел иное основание. Обязательная черта ее героя — величие, которое прежде измеряли местом, занимаемым человеком в этом мире, затем начали соизмерять с его внутренним — душевным достоинством. Обычный человек Горацио возвышается, умея быть верным Гамлету. Розенкранц и Гильденстерн унижены своим предательством.
Униженное не может быть трагичным даже в смерти. К тому же к смерти в эпоху Ренессанса иное отношение. Она возбуждает не только слезы, но и смех. Самая веселая сцена в «Гамлете» происходит на кладбище.
Шуты и клоуны
Вопросы для обсуждения
Всегда ли результатом сочетания трагического и комического будет трагикомедия?
Нас смешат и шуты, и клоуны, но в чем их различие?
Как на протяжении действия трагедии меняется образ датского двора?
Во времена Шекспира действительно смешение жанров вошло в моду и породило новый жанр — трагикомедию. Одним из первых его появление засвидетельствовал не кто иной, как любитель театра Полоний, представляя актеров как лучших в мире исполнителей «для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных...» (акт II, сцена 2).
Иронический, но точный реестр существующим жанровым формам и возможностям — их сочетания. Его неудивительно обнаружить именно у Шекспира. Первое, что о нем узнали в континентальной Европе в XVIII в., — это о его неправильности, его склонности перебивать течение трагического сюжета фарсовой сценой (пьяный Привратник в «Макбете» или могильщики в «Гамлете»).
Что это — черты трагикомического жанра в пространстве трагедии? К пьесам Шекспира определение «трагикомедия» применяют с осторожностью, чувствуя, что оно не очень к ним подходит. Жанр трагикомедии исходит из иного, чем шекспировское, представления о мире, в котором трагическое отделено от комического, высокое — от низкого, где у каждого человека свое место и каждый человек смертен. Возможность смешивать предполагает, что явления существуют раздельно. Раздельность есть условие трагикомедии.
У Шекспира не так, у него мир еще существует цельно. Еще не порвалась окончательно нить, связующая человека с родом, с миром. Мир человеческой жизни еще подобен природе, которая не знает смерти, ибо смерть — это начало новой жизни. Умирает человек, но человеческий род продолжается. Разве Гамлет, завещая Горацио рассказать правду о его жизни, не верит в это? И разве для него тем самым не была исполнена цель жизни — вправить «вывихнутое время», восстановить преступно порванную связь времен?
Фарсовые эпизоды вторгались в шекспировские трагедии на правах карнавального напоминания о непресекающемся течении жизни. Смех — единственное, что побеждает смерть, ибо смеется человек от полноты ощущения жизни, как это бывало во времена народного смехового празднества. Карнавал — пир на весь мир, перевертывание всего с ног на голову, издевательство над смертью во имя продолжающейся жизни. С этой (по М. М. Бахтину) смеховой народной культурой связан не только жанр шекспировской комедии, но и все его миросозерцание. Даже в свои самые высокие моменты шекспировская трагедия не боится уронить свое достоинство, рассмеявшись. Однако смех смеху рознь. И у Шекспира существуют разные типы комических персонажей. Не всем сопутствует обновляющий карнавальный смех. Смех может быть сатирическим, разоблачающим. Бывает он таким и в «Гамлете».
Появление наиболее важных комических персонажей приурочено к последнему акту. Он начинается явлением могильщиков, которые роют могилу Офелии. О ее смерти не знает только что прибывший из своей поездки в Англию Гамлет, вместе с Горацио вступающий в беседу с могильщиками. Ответы первого из них своей неожиданной глубокомысленностью порой ставят принца в тупик: «До чего точен этот плут! Приходится говорить осмотрительно, а не то мы погибнем от двусмысленности». Любящий точность, первый могильщик позволяет определить и возраст самого принца, каким его окончательно установил Шекспир, — тридцать лет. Именно столько лет он роет могилы, начав это занятие в тот самый день, когда родился молодой Гамлет, «тот, что сошел с ума и послан в Англию». Такая осведомленность заинтересовала принца, и он продолжает беседу:
Г а м л е т. Вот как; почему же его послали в Англию?
П е р в ы й м о г и л ь щ и к. Да потому, что он сошел с ума; там он придет в рассудок; а если и не придет, так там это не важно.
Г а м л е т. Почему?
П е р в ы й м о г и л ь щ и к. Там в нем этого не заметят: там все такие же сумасшедшие, как он сам.
На вопрос, на какой же почве лишился рассудка Гамлет, могильщик, демонстрируя все ту же любовь к словесной точности, отвечает, что на датской. Подобная речевая роль отчасти вытекает из его профессии, предполагающей умение углубляться и быть связанным с тем, что похоронено, скрыто. Однако именно в силу этого обстоятельства фарсовая роль первого могильщика исполнена такой смысловой глубины, что, значащийся в списке персонажей как клоун, с присущим этому амплуа глупостью и простоватостью, он блистает шутовской мудростью. В духе карнавального смеха он непосредственно соединяет мысль о смерти с мыслью о рождении, отсчитывая возраст Гамлета от того момента, когда он начал заниматься своим ремеслом. Усложнение его комической роли от клоунады к шутовству подчеркнуто тем, что первый могильщик выкапывает из земли череп королевского шута Йорика.
Шуты и клоуны — два основных типа комических персонажей у Шекспира, символизирующих две стороны звучащего в его пьесах смеха.
Шут — профессиональный дурак, по праву своего дурачества говорящий все что угодно, в том числе и правду. Вспоминается шут короля Лира — верный, проницательный, умный (см. о шуте подробнее в разделе о комедии).
Иное дело — клоун. Он тоже дурак, но не в символическом, а в обычном смысле. Он дурак, потому что глуп. А по своей глупости способен на всякие нелепости — в комедиях. В трагедиях же он способен и на подлость. Чаще всего в клоунской роли у Шекспира выступают простолюдины, но нет-нет да и в ней появляются знатные господа. Именно таков в «Гамлете» Озрик — комический вестник трагических событий, являющийся, чтобы передать Гамлету условия предлагаемого Клавдием поединка с Лаэртом (V, 2), и после этого до конца остающийся участником действия.
Озрик входит на словах Гамлета о том, что накануне Лаэрт взбесил его своим «кичливым горем», и, как бы иллюстрируя их, служит живым воплощением придворной кичливости в манерах и речи. Он смешон, и тем более, чем высокопарнее его речь. Озрик беспомощен в своих потугах на изысканность и изящество. В то же время он лицо не эпизодическое. Гамлет, глядя ему вслед, видит в нем образ нынешнего века: «Он любезничал с материнской грудью, прежде чем ее пососать. Таким вот образом, как и многие другие из этой же стаи, которых я знаю, обожает наш пустой век, он перенял всего лишь современную погудку и внешние приемы обхождения...»
В дальнейшем Озрик постоянно присутствует при совершающихся событиях: он подает шпаги Гамлету и Лаэрту, ведет счет ударам в их поединке, поднимает тревогу, когда королеве становится плохо, и, наконец, возвещает своей последней репликой приход Фортинбраса. Озрик — вестник, герольд и хранитель придворного ритуала, о достоинстве которого можно судить по ничтожности того, кому доверено его воплощать. «Связным между Гамлетом и смертью оказался Озрик — эльсинорский недоросль, ничтожество с выспренней речью» (Г. Козинцев. «Пространство трагедии»).
В отличие от могильщиков, которые до него выступали в клоунском амплуа, Озрик совершенно лишен шутовской мудрости. Он вызывает смех, но не потому, что остроумен. Мы смеемся не вместе с ним, а над ним, смеемся, не забывая о том, что в этом ничтожестве есть что-то зловещее. В смехе теперь звучит не обещание жизни, а ее горечь. Датский двор сначала вместе с Полонием бросил вызов Гамлету, затем предал его вместе с Розенкранцем и Гильденстерном и, наконец, довершил предательство вместе с Озриком, подавшим отравленную шпагу Лаэрту.
«Подгнило что-то в Датском королевстве» (I, 4) — такой диагноз положению дел поставил Марцелл, честный офицер ночной стражи в замке Эльсинор, один из первых, кому явился призрак убитого короля. Человеческое величие осталось в прошлом.
«Он человек был...»
Еще ни о чем не зная, Гамлет вопрошает своего единственного друга — Горацио, помнит ли тот его отца. Ответ Горацио: «Он был король». Реплика-возражение Гамлета: «Он человек был в полном смысле слова. / Уж мне такого больше не видать» (акт 1, сцена 2; перевод Б. Пастернака).
Продолжая традицию гуманистической мысли Возрождения, слово «человек» звучит как обозначение высшей мыслимой ценности, высшая похвала, но теперь глаголом прошедшего времени отодвинутая в невозвратное прошлое: «Он человек был...» И такого более не будет.
Не случайно едва ли не самое главное слово в шекспировской трагедии — Время. Трагедия воспринимает мир не застывшим, а предстающим в смене ценностей. Прежние понятия стремительно устаревают. Даже если герой пытается жить по прежним законам, рано или поздно он обречен ощутить их неисполнимость. Так, Гамлет хотел бы отомстить, но не в силах этого исполнить. Нет, разумеется, он может убить Клавдия, но сам этот поступок ничего не изменит, ибо он лишен прежней значительности. Ведь цель не убийство, а искоренение зла, чтобы «вправить вывихнутое время».
Старая мораль умерла. Герой пытается утвердить новую — гуманистическую. Однако он вынужден убедиться в том, что мир не готов ее принять, а все лучшее остается — нет, не в будущем, а в прошлом, ибо время безусловной ренессансной веры в достоинство человека тоже прошло.
Отчуждение будет и далее трагически нарастать в шекспировских пьесах. Правда, не в «великих трагедиях», написанных вслед «Гамлету». В них последняя попытка эпически цельного и прекрасного (fair) героя пробиться в мир: любовью — Отелло, добром — Лир, силой — Макбет. Это не удается: Время становится непроницаемым для них. Это слово у Шекспира, часто с заглавной буквы, подсказывает определение тому типу трагедии, который он создал: не трагедия Судьбы, не тронная трагедия, конечно, а трагедия Времени. Оно — противник, который роднит всех его трагических героев. И еще их роднит неизбежность поражения, подтверждающего, что «связь времен» действительно и необратимо распалась, что мир сделался ужасен (foul) и от него лучше стоять в отдалении.
Круг понятий Трагедия мести:
кровь требует крови
честь или достоинство
отчуждение героя
рефлектирующий герой
Темы для докладов и сочинений
Комические персонажи и ситуации в шекспировских трагедиях.
Почему медлит Гамлет и откуда мы об этом знаем?
Гамлет — образ человека Нового времени.
«Параллельное действие» — принцип шекспировской композиции.
Литература
«Гамлет» в русских переводах XIX—XX веков / сост. и предисл. И. Шайтанова. — М., 1994.
Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». — М., 1986.
Выготский Л. С. Трагедия о Гамлете, принце датском / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
Пинский Л. Е. Трагическое у Шекспира // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. — М., 1961. — С. 250—296.
Пинский Л. Е. Эволюция сюжета: трагедия-пролог // Пинский Л. Е. Шекспир: основные начала драматургии. — М., 1971. — С. 125—154.
Тургенев И. С. Гамлет и Дон Кихот.
Элиот Т.-С. Гамлет и его проблемы / Т.-С Элиот // Элиот Т.-С. Назначение поэзии / вступ. ст. А. М. Зверева. — Киев; М., 1997. — С. 151—156.
См. также критические материалы по трагедии (Л. С. Выготский, Л. Е. Пинский, Т.-С. Элиот) в кн.: Шекспир У. Пьесы; Сонеты / сост., предисл., коммент., справочно-метод. материалы И. О. Шайтанова. — М., 1997 (книга для ученика и учителя).
Урок по стилю барокко
«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ» В АНГЛИИ. ДЖОН ДОНН. «ПРОЩАНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ПЕЧАЛЬ» — ОСОБЕННОСТИ БАРОЧНОГО ОСТРОУМИЯ
В литературе XVII в. сложились два противоборствующих стиля: классицизм и барокко... Первый из этих стилей связывали с подражанием античной классике. Второй — с отступлением от нее, с нарушением правил, сформулированных в трактатах об искусстве, а для искусства слова — в поэтиках. Позицию первых назовут классицизмом. Для вторых потребуется более причудливое слово — барокко (подробнее о возможных вариантах его этимологии см. в учебнике).
Сейчас вспомним лишь о том, в чем, собственно, сказалась противоположность этих стилей художественного мышления.
Классицизм и барокко
Благопристойный порядок (декорум) лежит в основе стиля, который назовут классицизмом: это тенденция упорядочивающая, центростремительная. В эстетике классицизма — двойное подражание: античности и природе, к которой так совершенно сумели приблизиться античные авторы; в этике разум поставлен выше страсти; в политике — долг выше личных чувств.
Барокко центробежно: подражанию и норме оно предпочитает разнообразие и способность изобретать новое; разуму — остроумие и страсть; идеальному государству — ощущение конфликтности общественного устройства. Лишь одна воля принимается как высший закон — Божественная воля в религиозном барокко, но она только подчеркивает несовершенство природы человека и всех его дел.
Одним из самых известных проявлений стиля европейского барокко стала английская «метафизическая поэзия» и, в особенности, стихи ее признанного главы Джона Донна (1572—1631).
Что такое «метафизическая поэзия»? Почему этот философский термин был принят для характеристики определенного поэтического стиля?
Подробнее об этом и о творчестве Донна .
Русскому Донну едва исполнилось двадцать лет. Причина запоздания: в русской поэзии привыкли ценить ясность и простоту. Оба этих достоинства связаны с пушкинским именем, с его «гармонической ясностью». Почва для барочного стиха созревала долго и была подготовлена лишь всем поэтическим движением XX в. Стиль для нее предстояло создать. Завершение явилось делом Иосифа Бродского (1940—1996). В своей поэзии он воспользовался опытом Донна и перевел несколько его стихотворений.
Впрочем, первый сборник Донна на русском языке появился еще до Бродского — «Стихотворения» в переводе Б. Томашевского (1973). Это было начало, и оно было курьезным. Томашевский настолько не решался пойти вслед Донну, довериться ему, что отказывался даже от того, что было им уже найдено. Об этом можно судить по раннему варианту двух строк из стихотворения «Солнце встает»: «Нет для любви ни зим, ни лет в полете. / Часы и дни — лишь времени лохмотья».
Это буквальное повторение оригинала: «Love all a like, no season knows nor clime, / Nor hours, days, months, which are the rags of time», — сохраняющее силу его образа, его мысли. Однако переводчик как будто усомнился в своем праве быть настолько резким в выражении и смягчил его до безликости, печатая перевод в сборнике: «Ни лет, ни зим, ни стран любовь не знает, / Ни дней ни месяцев она не различает». Первый блин вышел комом. Донн попытался заговорить по-русски, сменив остроумие на банальность.
Если на примере одного стихотворения нужно продемонстрировать принцип «метафизической поэзии» в действии, то выбор текста практически предопределен. Во всяком случае, есть такой, которому отдается безусловное предпочтение. Его завершает одна из самых прославленных сложных метафор — концептов, а метафизическая ситуация обещана уже в самом названии: «A Valediction Forbidding Mourning». Б. Томашевский перевел его как «Прощание, запрещающее печаль», И. Бродский — как «Прощание, запрещающее грусть»: As virtuous men passe mildly away,
And whisper to their soules, to goe,
Whilst some of their sad friends doe say,
‘The breath goes now’, and some say, ‘no’...
У Донна, как и у Шекспира, нередко возникают архаические формы написания. Особенно часто сохраняется уже непроизносимое («немое») «е»: «passe, goe, soules». Вместо современного «while» — «whilst»; особенно часто в глагольных формах: «wilt» вместо «will», «doth» вместо «does». Встретятся и другие особенности языка XVII в., скажем, характерные для поэзии того времени стяжения в целях экономии слога: «twere» вместо «it were».
Б. Томашевский так перевел первое четверостишие:Так незаметно покидали
Иные праведники свет,
Что их друзья не различали,
Ушло дыханье или нет.
Томашевский уничтожил интонацию подлинника, заменил сложный речевой рисунок ритмичной ямбической дробью. Интонация стала важнейшей находкой Бродского:Как праведники в смертный час
Стараются шепнуть душе:
«Ступай!» — и не спускают глаз
Друзья с них, говоря «уже».
Иль «нет еще» — так в скорбный миг
И мы не обнажим страстей,
Чтоб встречи не принизил лик
Свидетеля разлуки сей.
Землетрясенье взор страшит,
Ввергает в темноту умы.
Когда ж небесный свод дрожит,
Беспечны и спокойны мы.
Так и любовь земных сердец:
Ей не принять, не побороть
Отсутствия: оно — конец
Всего, к чему взывает плоть.
Но мы — мы, любящие столь
Утонченно, что наших чувств
Не в силах потревожить боль
И скорбь разъединенных уст, —
Простимся. Ибо мы — одно.
Двух наших душ не расчленить,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянет в нить.
Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,
Где кружится моя душа,
Не двигаясь, душа твоя.
И станешь ты вперяться в ночь
Здесь в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляясь вновь,
Чем больше или меньше круг.
Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.
Интонация перевода имитирует живую речь, подкрепленная, как и в оригинале, переносами фразы со строки на строку (анжамбеманами), вынесением в сильную, рифмующуюся позицию слов неожиданных, вспомогательных... Наряду с интонацией у Томашевского пропал особый характер речевого остроумия, неожиданность как бы спонтанно рождающихся резких метафорических сближений — «далековатых» идей.
Первый аргумент в серии доказательств, предложенных поэтом против печали, — сравнение с тем, как тихо отлетает душа добродетельного человека, расставаясь с телом. «Далековато», зато вполне метафизично, устанавливая сразу же отношение духовного и телесного, обещая связь двух планов: небесного и земного. Образ угодного Небу человека, открывающий рассуждение о природе любви, определяет ее ценность, требующую бережного отношения к ней как к святыне. Об этом прямо и будет сказано во второй строфе, которая вместе с третьей развивает новый концепт, предлагает новую аналогию, не менее далековатую:So let us melt, and make no noise,
No tear-floods, nor sigh-tempests move:
Тwere prophanation of our joyes
To tell the laity our love.
Moving o’ th’earth brings harms and feares:
Men reckon what it did or meant.
But trepidation of the spheres,
Though greater far, is innocent.
Если первым сравнением любовь введена в сферу духовных ценностей, то вторым она перенесена в пространство современной науки («natural philosophy» — на языке XVII в.), против языка которой в любовном стихотворении и возражал Джон Драйден, первым — еще в XVII в. — назвавший такого рода стиль «метафизическим».
«Moving о’ th’earth» — землетрясение, результаты которого всегда столь ощутимо катастрофичны для человека; «trepidation of the spheres» — движение сфер, которого мы не ощущаем, несмотря на то что оно куда грандиознее содроганий, переживаемых планетой Земля. Комментаторы спорят, в какой мере в этих образах присутствуют Птолемей, открытия арабских астрономов X в., Коперник, но если астрономический смысл затуманен, то поэтический вывод несомненен: небесные явления, пусть и гораздо более грандиозные, чем дела земные, менее ощутимы для человека. Поскольку наша любовь (это уже доказано первым сравнением) причастна высшим ценностям, не будем ни унижать ее потоками слез и бурями вздохов, ни умалять небесное земным.
Переводчику трудно вплести научную терминологию в поток непринужденной светской речи. Что-нибудь да пропадает. Или порождает смысловую неразбериху, которой не избежал и Бродский в конце второй строфы. У Донна недвусмысленно сказано о том, что было бы кощунством обнаружить свою любовь перед непосвященными, а у Бродского вместо этого лик свидетеля, принижающий встречу... Понять трудно, о чем идет речь, если не заглянуть в подлинник.
И «небесный свод» — это совсем не то же, что небесные сферы — точный термин из области философии и астрономии. Тем не менее и свод — это образ небесного, которому принадлежит любовь, отличная от обычной — земной. О ней речь далее:Dull sublunary lovers’ love
Whose soul is sense cannot admit
Absence, because it doth remove
Those things which elemented it.
But we, by a love so much refin’d
That ourselves know not what it is,
Inter-assured of the mind,
Care less, eyes, lips, hands to misse.
«Любовь земных сердец», как в переводе обозначит Бродский банальное чувство подлунных влюбленных, противоположна нашей потому, что она вся — «чувство»... Далее переводчику все труднее, и он все менее справляется со словесной игрой подлинника, где в ход идут и каламбуры, и заглядывание во внутреннюю форму слова. Каламбурна перекличка между словом «absence» — отсутствие, здесь — расставание, которого не выносит подлунная любовь, и словом «sense» — чувство, которым определяется природа этой любви. Хотя этимология этих слов различна, но на слух одно может восприниматься как отрицательная форма другого через латинское значение приставки «ab-». Каламбур выступает как наглядный аргумент: разумеется, чувственная любовь не выносит разлуки, которая есть «ab-sence», т. е. разрушает все чувственное, по определению являясь его отрицанием.
Не должно смущать, что в каламбур вовлечены латинские значения. Предполагают, что Донн вовлекает их в несравненно большей степени, чем мы об этом догадываемся, поскольку он сам и его круг были людьми двуязычными, владевшими двумя языками культуры: английским и латынью.
Любовь в «Прощании», казалось бы, последовательно освобождается от груза всего земного и утверждается в своем небесном достоинстве в согласии с ренессансной традицией, а не вопреки ей. Да, разумеется, Донн презрительно вспоминает о «подлунных» возлюбленных, чья любовь — «чувство», что не значит, что чувственное вовсе отсутствует в любви для Донна. Совсем нет. Оно лишь утончено (refin’d) настолько, что взаимоуверенные (всегда в одно слово) (inter-assured — Донн любит эту приставку, ибо она участвует в образовании глаголов, сама форма которых наглядно предполагает полноту взаимного контакта, проникновения) в своих душах влюбленные менее зависимы от «глаз, губ, рук».
Тупость «подлунных» («dull sublunary») влюбленных не в том, что они живут чувством, а в том, что чувством они заменили душу («Whose soul is sense...»). Они знают только чувство, приукрашенное словами. Намек на это можно расслышать в самом эпитете к слову «влюбленные» — «подлунные», который может иметь двойное значение: земные и в то же время привыкшие апеллировать к луне, клясться ею, как и поступают юноши, пропитанные духом сонетной условности (например, Ромео при первом объяснении с Джульеттой, которая просит его: «О, не клянись луною...» — а если уж ему непременно нужно поклясться, «клянись собой», акт II, сцена 2).
Поэтическое доказательство против печали продолжается:Our two soules therefore, which are one,
Though I must goe, endure not yet
A breach but an expansion,
Like gold to airy thinnesse beate.
If they be two, they are two so
As stiffe twin compasses are two:
Thy soul the fixed foot, makes no show
To move, but doth, if th’other doe.
And though it in the centre sit,
Yet when the other far doth roam,
It leanes, and hearkens after it,
And grows erect as that comes home.
Such wilt thou be to mee, who must
Like th’other foot, obliquely runne.
Thy firmness makes my circle just,
And makes me end, where I begunne.
Многое говорящим уже доказано, и поэтому он может делать некоторые выводы: следовательно — therefore... Этим словом вводится мысль о нерасчленимом единстве наших душ. Донн не перестает размышлять вслух, убеждая собеседницу. У него нет итога, ибо нечто доказанное тут же требует продолжения мысли, возникающей по ходу, возвращающейся, договариваемой: «Наши две души, следовательно, составляющие одно целое, / Хотя я и должен уехать, переживают, однако, / Не разрыв, а растяжение, / Подобно золоту, битому до воздушной тонкости».
«Битое золото» представляет еще одну терминологическую трудность. Бродский с нею не стал бороться, а просто отступил. Любопытный образец переводческой борьбы оставил нам в нескольких вариантах своего перевода Г. Кружков. Он сделал попытку внедрить в любовный текст технический термин (т. е. сделать стиль метафизическим):Связь наших душ над бездной той,
Что разлучить любимых тщится,
Подобно нити золотой,
Неистощимо волочится.
Глагол «волочится» этимологически родствен слову «проволока» и служит указанием на процесс ее производства («волочить»). С этой точки зрения образ верен, однако невозможен поэтически. В русском лирическом тексте производственный смысл ощущается лишь как намерение, а в полной мере работает другой — совершенно здесь неуместный, но подсказанный любовным контекстом стихотворения — «волочиться за кем-то...». Г. Кружков в последнем варианте также отступил: «Не рвется, сколь ни истончится».
С «битым золотом», однако, уходит не только метафизическая привязка в стиле. Уходит образ, богатый и зрительным, и интеллектуальным впечатлением, — «воздушная тонкость», до состояния которой истончено золото. Это «тонкая материя» — физическое понятие того времени, которое есть основа всего сущего. У Донна «воздушная тонкость» окрашивается в золотистый тон как будто пронизанного солнечным светом воздуха. В ее красоте зримо воплощена приравненная к золоту ценность слияния наших душ, нерасторжимо пронизывающих собой (подобно «тонкой материи») мироздание. Любовная аргументация прибегает к ремесленной терминологии, физическим и алхимическим понятиям...
Итак, связь душ доказана, обоснована, доведена до зрительной ясности. Остается довершить итог заключительным аргументом, способным уже с безусловной убедительностью доказать, что печаль неуместна, поскольку наша любовь не знает разлуки. Что-то должно быть не умозрительным, а простым и наглядным. Выбор падает на циркуль. Донн не был первым, кто избрал этот образ в качестве любовного концепта. Первым, полагают, это сделал итальянец Гварино Гварини, но Донн взял его по праву гения — как свое.
Описывая окружность, циркуль завершает путь путешествующего поэта и путь образа в его стихотворении. Предполагают, что образ циркуля предварен упоминанием о золоте в предшествующей строфе, так как широко известный в ту эпоху алхимический знак золота представляет собой кружок с отмеченным центром. Это важная подсказка, поскольку мы уже могли убедиться в том, что Донн не бросает отрывочные аргументы, но выстраивает их в логическую цепочку.
Важно и то, что эта подсказка зрительная. Не забудем, что уже началось продолжавшееся более века увлечение книгами эмблем, издававшихся десятками и сотнями по всей Европе для целей обучения и развлечения. В эмблеме картинка сопровождается остроумным стихотворным текстом. Читателю предстоит понять, как слово соотносится с изображением.
Барочный, в том числе и метафизический, текст приглашает к интеллектуальной игре и устанавливает для нее свои правила. Овладевший искусством этой игры получает в качестве приза способность заглянуть в таинственную глубину мира и понять скрытые связи между его явлениями.
Круг понятий «Метафизическая поэзия»:
кончетти / концепт
остроумие метафорическое доказательство
далековатые идеи
Темы для докладов и сочинений
Как меняется характер любви в метафизической поэзии Джона Донна в сравнении с ее ренессансным пониманием?
С какими трудностями столкнулись русские переводчики при переводе «метафизической поэзии»?
Джон Донн и Иосиф Бродский.
Литература
Горбунов А. Н. Джон Донн и английская поэзия XVI—XVII веков. — М., 1993. — C. 86—137.
Шайтанов И. Уравнение с двумя неизвестными: поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // И. Шайтанов. Вопросы литературы. — 1998. — № 6. — C. 3—40.
Урок по классицистическому жанру
ЖАНР БАСНИ. ЛАФОНТЕН И РУССКИЕ БАСНОПИСЦЫ
Если заложить в компьютер сведения по всем жанрам, учтенным поэтикой классицизма, а также требования, предъявляемые ею к поэзии, и задать вопрос о том, какой жанр мог бы претендовать на популярность в XVII столетии, то басня оказалась бы в числе наиболее вероятных претендентов на успех.
Басне сопутствует почтенная древность, в рамках античности восходящая к Эзопу в Греции и Федру в Риме. Она наглядно сочетает поучение с развлекательностью.
В школьной программе басня вытеснила ренессансную эмблему как раз в силу своей нравственной наставительности и большего разнообразия. По мере того как возрастал интерес к природе, она потеснила пастораль, поскольку в соответствии с поэтикой классицизма воспринимала природный мир очеловеченным, проникнутым нравственными понятиями и в то же время не чуждым естественной простоты. Можно еще добавить, что в своей речевой свободе басня, соединив повествование с диалогом, предвосхитила успех романа...
В совокупности всех этих достоинств XVII в. не унаследовал басню в готовом виде. Ее предстояло создать заново, что и совершил Жан де Лафонтен (1621—1695). Буало, писавший свое «Поэтическое искусство» до появления в свет лучших басен своего друга Лафонтена, даже не включил ее в свой жанровый перечень.
По своему характеру Лафонтен мало подходил на роль строгого морализатора. Под пером биографов он часто напоминает некоторых героев собственных басен, не слишком трудолюбивых, ценящих радости и наслаждения, но не заботящихся о завтрашнем дне... Да, стрекоза, или, если следовать Лафонтену, а не его переложению И. Крыловым и другими русскими баснописцами, кузнечик, но которому повезло в жизни, ибо вместо сурового муравья поэту встречались люди, готовые за его талант и добрый нрав не отказать ни в крове, ни в вознаграждении.
Первым покровителем Лафонтена стал знаменитый суперинтендант финансов Фуке. Он оценил остроумие еще никому не известного да мало что и написавшего поэта, который, однако, был уже не слишком молод. Лафонтен начал писать поздно. В своем родном городке в Шампани он получил неважное образование, но зато унаследовал от отца должность смотрителя вод и лесов. Замечательное занятие для будущего баснописца! Первая известность пришла к Лафонтену в 1654 г., когда он опубликовал перевод комедии Теренция «Евнух», и тогда же был представлен Фуке. Следующие шесть лет Лафонтен провел при нем в качестве пансионера, обязанного поставлять некоторое количество стихов, развлекающих и прославляющих патрона. Из написанного в это время выделяется поэма о сказочном поместье Фуке — «Сон в Во» (1658—1661). Все кончилось стремительно — падением суперинтенданта, которому Лафонтен в числе немногих сохранил верность и даже на какое-то время отправился в ссылку за свою элегию «К нимфам в Во» (1662).
Однако судьба была к нему благосклонна, а талант позволял с необычайной легкостью осваивать новые формы. Герцогиня Бульонская (племянница покойного кардинала Мазарини) попросила его написать для нее стихотворные сказки. И первый их том увидел свет в 1665 г., а жанр приобрел популярность. Характерно, что сказки и новеллы предшествуют басням, которым они передадут свою уже обретенную Лафонтеном технику легкого ведения рассказа в стихах. Как явствует из названия первого сборника, Лафонтен не мыслил басенный жанр своим созданием и выступал скорее как переводчик — «Басни Эзопа, переложенные в стихи» (1668, книги I—VI). В полной мере оригинальным творением был второй сборник — в 1678—1679 гг. (книги VII—XI; последняя, XII — 1694).
Эзоп, Лафонтен, Крылов
Многие басенные сюжеты, популярные в России благодаря И. Крылову, представляют собой переводы из первых книг Лафонтена и, таким образом, восходят к Эзопу: «Ворона и Лисица», «Дуб и трость», «Волк и Ягненок»...
Эзоповские иносказания Лафонтен нередко снабжал социальным адресом, переводя их из плана морали в план истории. Если в первых книгах он более метит в «сошку мелкую», подобную лягушке, которая захотела сравняться с волом, то впоследствии он все чаще рассуждает о слабостях сильных мира сего («Похороны львицы»). Герой одной из самых известных его поздних басен «Дунайский крестьянин» — варвар, решившийся сказать правду о римской тирании перед Сенатом. Что можно было ожидать? И здесь мы встречаемся с важнейшим показателем мастерства в басне — с остроумной неожиданностью концовки. Сенат не проклял смельчака, а восславил его, чтобы тут же предать забвению смысл его слов:Сенат указ направил всем,
Да, всем ораторам такую речь навеки
Принять за образец и в памяти беречь.
Но Рим об этом человеке
Забыл, а с ним забыл и речь.
Перевод В. Левика
Басенная концовка способна менять направление сатиры, а то и вовсе уводить за ее пределы. Баснописец как будто бы по самой природе своего жанра сатирик. Тем более неожиданной будет репутация Лафонтена во Франции, где еще знаменитый критик-романтик Ш. Сент-Бёв в 1829 г. провозгласил его величайшим лирическим поэтом: «Лафонтен вернул лирике ее изначальный характер, придав ей форму живого, хотя и сдержанного излияния; он очистил ее от всего банального и чувственного, причем в этом отношении ему, как и Петрарке, немалую службу сослужил Платон...»3 Далее следует ссылка на финал прославленной басни «Два голубя» (Les deux pigeons).
Приведем всю последнюю строфу на языке оригинала; она вслед за иносказанием о расставшихся голубях представляет собой не сатирическое нравоучение, а лирический фрагмент на тему «С любимыми не расставайтесь»:Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
Que ce soir aux rives prochaines.
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien de reste.
J’ai quelquefois aimé: je n’aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honoré par les pas, éclairé par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous les fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas! quand reviendront de semblables moments?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète?
Ah! si mon cœur osait encore se renflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête?
Ai-je passé le temps d’aimer?
К предпоследней строке у Сент-Бёва дан такой комментарий: «...слово „charme“, употребленное... в переносном и метафизическом смысле, являет собой новый успех французской поэзии», развитый впоследствии романтиками. Говоря о «метафизичности» и платонизме Лафонтена, критик имеет в виду его способность обнаружить глубину простых слов, за внешним «обаянием» позволить ощутить очарование любви и красоты. В русской поэзии такая способность связывается прежде всего с именем Пушкина, высоко ценившего Лафонтена.
Басня «Два голубя» не раз переводилась на русский язык. Точнее всего оригиналу следовал Иван Дмитриев (1760—1837). Его многие современники считали наиболее близким из русских баснописцев Лафонтену и ставили выше И. Крылова. Крылов — поэт иного стиля. Классическим достоинствам стиха он предпочел обновление языка просторечной разговорностью и на этом пути стал великим национальным поэтом. Его совершенно не заинтересовали в финале басни «Два голубя» ни метафизика, ни «меланхолическая нежность», столь хвалимые Сент-Бёвом. Крылов до минимума свел лирическое объяснение, фактически сменив объект любви, ибо упоминание о милой и друге у него лишь повод сказать о родной земле: О вы, которые объехать свет вокруг
Желанием горите!
Вы эту басенку прочтите
И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг,
Чтоб ни сулило вам воображенье ваше;
Но, верьте, той земли не сыщете вы краше,
Где ваша милая иль где живет ваш друг.
Сравнивая Крылова с Лафонтеном, нельзя забывать о том, что они принадлежат не только разным национальным культурам, но и разным художественным эпохам. Одна ценила эстетические приличия и допускала естественность лишь настолько, насколько она удовлетворяла изящному вкусу. Другая эпоха с совершенно иной — романной — степенью свободы привыкла откликаться на голос современной реальности. Первой принадлежат Мольер и Лафонтен, второй — Грибоедов и Крылов. Ошибкой было бы полагать, что все преимущества на той или иной стороне. В каждом случае они свои.
«Лафонтен и Крылов, — скажет Пушкин, — представители духа обоих народов». Они представители разных культур и разных эпох. В искусстве классицизма низкое и грубое может появиться лишь оправданное иронией, назидательностью, в качестве почти фантастической экзотики.
Если встать на позицию классической поэтики, то изменение в басне, произведенное Крыловым, возвращает ее к состоянию низкого жанра, из которого ее вывел Лафонтен. Если полагать приближение к реальности единственной целью искусства, то мы утратим ощущение ценностей, сопутствующих классическому стилю. Мы лишим себя радости пережить его совершенство: строгую взвешенность языка, серьезность мысли, сдержанность эмоции. Страсть должна была держать себя в рамках эмоционального и эстетического приличия, однако рассудочность, холодность Буало считал недостатком в поэзии. Они несвойственны Лафонтену, в стихах которого более чем у кого-либо из поэтов его века (процитируем еще раз Сент-Бёва) «дают себя знать неуловимые томность и мечтательное сладострастие...».
Лафонтен знал, как выразить мысль и чувство как будто не только от собственного лица, но как бы существующие объективно, независимо от говорящего. Этого требовал хороший вкус. Но тот же вкус требовал, чтобы человек умел оставаться самим собой, не поддаваться поветриям моды и чужим мнениям. Эту мысль Лафонтен и выразил в одной из своих самых прославленных басен, развернутой им в небольшую поэму, — «Мельник, его сын и осел».
Темы для докладов и сочинений
Чем объясняется популярность жанра басни в эпоху классицизма?
Лафонтен и Крылов (сравнительный анализ одной из басен).
Литература
Выготский Л. С. Анализ басни / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Психология искусства (неоднократно переизд.).
Сент-Бёв Ш. Лафонтен / Ш. Сент-Бёв // Сент-Бёв Ш. Литературные портреты: Критические очерки. — М., 1970. — С. 83—98.
1 Смирнов А. Из истории западноевропейской литературы. — М.; Л., 1965. — С. 95.
2 См. текст эссе Т.-С. Элиота в кн.: Шекспир У. Пьесы; Сонеты. — М., 1997 (книга для ученика и учителя).
3 Сент-Бёв Ш. Литературные портреты: Критические очерки. — М., 1970. — С. 91.
Урок по эпохе Просвещения
ГЁТЕ И ПУШКИН
Фауст на берегу моря
Фауст у Гёте и Пушкина — это классический сюжет из области сравнительной истории литературы. Он особенно памятен своей смысловой важностью: в образе Фауста оба поэта подводили итог целой эпохе — эпохе Просвещения.
Каждый вступающий в область сравнительной истории литературы должен определить для себя, каким инструментом он будет пользоваться. Выбор зависит от того, считать ли проблему лежащей в области контактных или типологических связей.
Сравнительная история литературы, или, иначе, компаративистика, — это один из самых распространенных в современной филологии подходов изучения. Истоки этого подхода уводят к эпохе Просвещения, которая, как никогда прежде, сблизила народы, интенсивно обменивающиеся товарами и идеями. Люди увидели, что при всем различии разных культур в них много общего. В чем причина сходства? Произошло ли в одном случае воздействие одной культуры на другую или сходное родилось в силу каких-то общих законов развития? В первом случае культурные связи (которые изучает компаративистика) называют контактными, во втором — типологическими.
Знал ли Пушкин о замысле второй части «Фауста», когда (вероятно) летом 1825 г. он писал «Новую сцену между Фаустом и Мефистофелем»?1 Или он независимо от Гёте пришел к сходной с ним интерпретации сюжета о Фаусте?
План второй части «Фауста» возник у Гёте в годы наиболее интенсивной работы над первой — в 1797—1801 гг., но (за исключением эпизода с Прекрасной Еленой для III акта) вторая часть создается после 1824 г.
А мог ли Гёте, вернувшийся к работе над второй частью трагедии, услышать от кого-то из русских путешественников о пушкинской сцене?
Пушкин привез ее из Михайловского в сентябре 1826 г. В 1828-м она была напечатана в журнале «Московский вестник» (№ 8) как «Сцена из Фауста».
После статьи М. П. Алексеева2, сопоставившей все имеющиеся факты и версии, спор на тему, кто из поэтов и как именно мог быть осведомлен о замыслах другого, замер в ожидании новых документальных данных. Эта неопределенность не отменяет того, что воображение продолжают волновать явные совпадения, или, лучше сказать по-пушкински, «странные сближения». Они настолько явны, что не позволяют спокойно оставить сюжет в области компаративной типологии.
Во всяком случае, если принять, как того требует недостаток имеющихся сведений, версию о том, что два поэта независимо друг от друга и почти одновременно обратились к Фаусту, то остается решить, что же подтолкнуло их к разработке совершенно нового в фаустовской теме мотива: Фауст на берегу моря.
Именно на берегу моря Фауст становится для Пушкина «символом судьбы западноевропейского человека, представителем новой культурной эпохи»3. Таков лейтмотив сопоставления: Фауст — символ культурной судьбы.
Этот лейтмотив в глазах исследователей и не мог бы быть другим, после того как О. Шпенглер в своей истории западной культуры обобщенно представил ее человека как фаустовский тип. Правда, Гл. Глебов, в отличие от Шпенглера, прежде всего видит в Фаусте не воплощение «безграничного одиночества»4 и вечной устремленности (уверенность, что сакраментальное заклятие: «Остановись, мгновенье!» — никогда не будет произнесено), а воплощение деятельного рационализма.
И все-таки почему символ «западноевропейского человека» набросан Пушкиным и завершен Гёте на новом для него фоне — морском? Причем сделано это обоими практически одновременно.
Важность нового места действия была подчеркнута в названии статьи М. Эпштейна «Фауст и Петр на берегу моря» (1979). Как явствует из названия, трагедия Гёте сопоставлена не с пушкинской сценой, а с «Медным всадником»: два преобразователя и стихия.
«Медный всадник» завершен через год после смерти Гёте — в 1833 г. Однако начало замысла возвращает в 1824 г., в год петербургского наводнения. Оно захватило воображение обоих поэтов. Пушкин собирал о нем материалы. Гёте интересовался, расспрашивал.
В какой же ассоциативный круг вступает Фауст, выйдя на берег моря в середине 1820-х гг.?
Впрочем, мы можем точнее обозначить время действия: после смерти Байрона.
Байроническое море в русской поэзии
К «продолжению Фауста» Пушкин и Гёте приступили одновременно — вскоре после гибели Байрона в Греции 19 апреля 1824 г. Связь событий здесь не только хронологическая. Оба выводят Фауста на берег моря — стихии, восприятие которой окрашено в байронические тона.
Для обоих поэтов Байрон был важен при жизни. Оба откликнулись на его смерть. Пушкин первый раз сделал это в письме П. А. Вяземскому (конец июня 1824 г., Одесса): «...тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». И в этом же письме: «Обещаю тебе, однако же, Вирши на смерть Его Превосходительства».
Пушкин, не откладывая, исполнил обещанное. Первая редакция стихотворения «К морю» была завершена еще в Одессе между 16 и 31 июля 1824 г. Пушкин уезжал в Михайловскую ссылку 1 августа. В первых числах октября в Михайловском завершена и перебелена окончательная редакция.
Хрестоматийные строфы на смерть Байрона:Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец,
Шуми, волнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем не укротим.
Мир опустел...
Далее следуют строки, вычеркнутые цензурой при первой публикации стихотворения в альманахе «Мнемозина» (1825, № 4), редактируемом А. Бестужевым и В. Кюхельбекером:Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
Просвещение, которое стоит в одном ряду (не противопоставлено!) с тираном? К этому вопросу еще придется вернуться. Он связан с Фаустом.
Эпитеты для характеристики Байрона, позаимствованные у морской стихии, были не откровением в русской оценке Байрона, а скорее развитием того, что станет общим местом русского байронизма, усугубляющего впоследствии мрачно-глубокие черты оригинала (ср. лермонтовский перевод «Моя душа мрачна...»).
Образ Байрона соединился в русском сознании с образом моря в первом же стихотворном переводе из него, каковым стал отрывок (две неполные строфы) из «Паломничества Чайльд Гарольда»: песнь IV, так называемая итальянская (и последняя). Она была написана и издана в 1818 г. Перевод выполнен с итальянского подстрочника К. Н. Батюшковым: «Есть наслаждение в дикости лесов...»
До недавнего времени полагали, что Батюшков переводил летом 1819 г., живя (как и Байрон) в Италии. Неполный текст перевода был опубликован в 1828 г. в «Северных цветах». Пытались угадать, каким же образом этот текст стал известен Пушкину накануне или в самом начале Южной ссылки, поскольку очевидна его связь с элегией «Погасло дневное светило...», написанной 20 сентября 1820 г.
Недавняя гипотеза В. Э. Вацуро меняет порядок событий: не Пушкин узнал перевод Батюшкова, а Батюшков в момент своего последнего просветления от душевной болезни услышал (от Д. М. Блудова в Германии) пушкинский текст. Таким образом, не Пушкин откликнулся на первое явление поэтического Байрона в России, а Байрон явился прочитанным в духе раннего Пушкина5. В духе, который был подготовлен пушкинским чтением Байрона по-французски и даже попыткой перевода его с английского (осталось несколько строк из «Гяура»).
Как бы то ни было, но и пушкинский байронизм, и первый перевод Байрона на русский язык сопрягают его образ с морем. Так останется и в дальнейшем, когда самым тиражированным во множестве переводов байроновским текстом будет прощание Чайльд Гарольда с родиной из первой песни.
«Свободная стихия» — символ романтической устремленности к беспредельному и одновременно предел, поставленный самой природой для деятельности человека. Предел для свободы человека или для его произвольного тиранического стремления все присвоить себе, в том числе и саму природу?
Текст батюшковского перевода, который появился в 1828 г., согласно гипотезе В. Э. Вацуро, представлял собой коллективную (арзамасскую) редакцию. Ее совершенство обусловлено тем, что в ней приняли участие Жуковский и Пушкин. Но ее текст не был полным. Лишь спустя тридцать лет — в 1857 г. — в «Современнике» (из «Записной книжки» П. А. Вяземского) было напечатано начало следующей строфы «Чайльд Гарольда» в переводе незадолго перед тем умершего Батюшкова:Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море — чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей...
Этот фрагмент открывается строкой, наиболее созвучной ранней пушкинской элегии («Шуми, шуми, послушное ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан...»). Батюшков оборвал свой перевод в том знаменательном месте, где Байрон видит просвещенного человека «суетным тираном», чья деятельность обречена перед лицом стихии.
Когда Пушкин в стихотворении «К морю» сблизил просвещение и тирана, он поступил так вслед именно этой мысли Байрона, но изменил ее итог: просвещение и тирания показались ему сильнее стихии.
Гёте и Пушкин одновременно вывели Фауста на берег моря, когда умер Байрон. Это было для них знаком того, что кончилась эпоха, наполненная его именем. Романтизм? В узком смысле — да. В исторической перспективе предстояло оценить завершение периода гораздо более долгого, включающего не только разочарование в просветительской утопии, но и ее саму. Оценить в тот момент, когда слово «просвещение» вдруг вернулось, соединенное уже не со свободой (равенством и братством), а с тиранией, т. е. с произволом человека, чья деятельность перестала быть разумной, утратив свой нравственный смысл.
Здесь-то Фауст и вышел на берег моря.
Кризис просветительской деятельности
У Гёте мотив моря появляется в акте IV второй части — «Горная местность». В финале предшествующего акта Прекрасная Елена и Фауст расстаются после гибели их сына Эвфориона. В его мертвом лице проступил знакомый образ («...man glaubt in dem Toten eine bekannte Gestalt zu erblicken...»). Согласно сообщению Гёте, это был образ Байрона.
При взгляде на море у Фауста впервые рождается мысль о преобразовании стихии, нарушении ее повторяющегося и бесполезного хода, на что Мефистофель откликается иронически, но, как всегда, готов к услугам. Он предлагает ввязаться в войну на стороне императора против претендента и получить в благодарность часть побережья.
Замысел Мефистофеля исполнен. Теперь приступают к осуществлению плана Фауста. Акт V — «Открытая местность». Начинается грандиозное строительство. Со стороны оно увидено патриархальной четой — Филемоном и Бавкидой, которые обсуждают происходящее с посетившим их Странником. В источнике сюжета («Метаморфозы» Овидия) странником был неузнанный бог. Здесь об этом нет речи.
Филемон рассказывает Страннику о происшедшем в просветительских терминах: «Умные распоряженья / И прилежный смелый труд / Оттеснили в отдаленье / Море за черту запруд» (перевод Б. Пастернака). Бавкида видит иное — злую силу и предполагает, что здесь действует «строитель адский».
Фауст требует переселить престарелую чету — ему нужен их участок, для того чтобы устроить помост и любоваться результатом труда. Следующее известие — о гибели стариков. По словам Мефистофеля, они перепугались, когда начали выносить их вещи, и испустили дух.
А Странник? Он оказал сопротивление, и его убили. Помня о божественном происхождении гостя в источнике Овидия, не мотив ли это гибели богов, который у Шиллера и Гёте означает разрыв человека с живой природой?
Так осуществление утопии начинается человеческой трагедией. Маленький человек гибнет под ее колесами, даже когда преобразование предпринимается с лучшими намерениями. А преобразователь слеп: метафора реализована в физической слепоте немощного уже Фауста.
Слепота — знак поражения того, кто обманулся в своем преобразовании, или прозрения для того, кто мечтает о том, чтобы увидеть грядущее? Ведь только теперь Фауст впервые ощущает себя счастливым:Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!..»
На этих словах Мефистофель счел условие их договора исполненным: «Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и кладут на землю».
Мефистофель победил? И все же Фауст спасен у Гёте небесным вмешательством.
Финал трагедии написан в год смерти Гёте (1832), т. е. на семь лет позднее пушкинской сцены. Если сравнивать пушкинского Фауста с героем Гёте, то он мог бы быть таким после первой части трагедии6.
«Сцена из Фауста» у Пушкина — прощание с морем, Одессой, Байроном, романтизмом... Это доведение «скуки» до «метафизической сущности все отрицающего духа»7 и одновременно опосредование этой сущности, окончательное изживание ее. Она выведена вовне. Преувеличена и снижена мефистофельской ухмылкой, на которую Фаусту нечем ответить.
Он в гневе: «Сокройся, адское творенье! / Беги от взора моего!» Тот согласен, но просит задать ему задачу. Взгляд Фауста падает на «корабль испанский трехмачтовый...». Мефистофель докладывает, кто и что на нем. Затем следует приговор:
Ф а у с т. Всё утопить.
М е ф и с т о ф е л ь. Сейчас.
Фауст у Пушкина совсем иной, чем у Гёте. Он прошел искушение романтической скукой, он разочарован. Уже в пересказе мадам де Сталь (если ее книга была первоисточником знания Пушкина о трагедии) Фауст был заражен гамлетизмом — болезнью эпохи.
И в то же время морская сцена у обоих поэтов имеет черты несомненного сходства. Даже в деталях. Полагают, что испанский корабль мог преобразиться у Гёте в барку, на которой прибывают Трое Сильных (die Drei gewaltigen Gesellen) — помощники Мефистофеля. Скорее всего, они пираты, воплощающие закон силы, который правит на море, превращая «свободную стихию» в пространство произвола и бесправия.
Разочарование в деятельности — вот мотив, со всей ясностью возникающий на берегу моря.
Каким образом разочарование в деятельности связано с кризисом просветительских убеждений? Сопоставьте финал сюжета о Фаусте с антипросветительской полемикой в «Кандиде» Вольтера или в произведениях сентиментализма.
В пушкинской сцене этот мотив становится мыслью, настроением героя, сообщая ему черты байронические. Гёте в «Фаусте» поднимается на бóльшую историческую высоту, на ту, с которой и Пушкин будет позже оценивать современность в своей поэме «Медный всадник».
Ее действие, как и «Сцена из Фауста», будет происходить на морском берегу. Именно в «Медном всаднике» Пушкин, так же как и Гёте в «Фаусте», решает вопрос о последствиях деятельности свободного человека и о нравственных границах его свободы.
Это трагическая тема искусства в Новое время. Так Гёте и обозначил жанр своего «Фауста» — трагедия, хотя ее (по-дантовски) «комедийный», т. е. счастливый, финал скорее напоминает о том, что сам сюжет рождался в атмосфере позднего Средневековья, на фоне жанра моралите, герой которого умел преодолеть свою греховность благими помыслами и добрыми деяниями.
Гёте назвал «Фауста» трагедией. Тем самым он дал подсказку для того, чтобы во множественности жанровых ассоциаций, сопровождающих пушкинскую «петербургскую повесть» — «Медного всадника», выбрать наиболее верную.
Круг понятий Фауст у Пушкина и Гёте
компаративный сюжет
байроническое море разочарование в деятельности
границы нравственной свободы
Темы для докладов и сочинений
Почему слова «просвещенье» и «тиран» у Пушкина стоят рядом? Они противопоставлены или сближены по смыслу?
Каким видится Гёте итог эпохи Просвещения? Почему преобразованием мира занимается слепой Фауст?
Урок по романтизму
ВАЛЬТЕР СКОТТ. СОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Путь Вальтера Скотта к роману
Летом 1814 г. увидел свет первый роман Вальтера Скотта (1771—1832) «Уэверли, или Шестьдесят лет назад». Имя автора на нем не значилось, как и на всех последующих вплоть до Собрания сочинений 1829 г., в предисловии к которому Скотт объяснит, что заставило его так долго скрываться от читателя. Вначале останавливала боязнь неудачи, нежелание рисковать литературной репутацией, приобретенной в качестве поэта. Затем автору понравилась игра с публикой, увлекла тайна, которую Скотт любил не только в литературе, но и в жизни.
Лишь самый узкий круг друзей знал наверняка то, о чем спорила и о чем догадывалась вся Европа: кто же истинный автор романов, имеющих огромный успех и печатающихся анонимно или под псевдонимом «Автор Уэверли»?
Непосредственным поводом для Скотта поменять род литературных занятий, перейти из поэзии в прозу, стал сравнительный неуспех его поэм, появившихся после опубликования первых песен «Паломничества Чайльд Гарольда» (1812). На английском Парнасе первое место теперь принадлежало Байрону, и Скотт тем легче уступил его, что с готовностью признал талант и превосходство молодого поэта.
Скотт всегда с редкой готовностью был рад признать, чему и у кого он научился. Основной учитель всегда и во всем — Шекспир, любимый с детства. Когда в начале «Уэверли» Скотт говорит, что предметом его «рассказа будут скорее люди, чем нравы», он тем самым отказывается идти по пути мелочного бытописания, предпочитая бутафорской точности антиквара шекспировское проникновение в человеческую природу.
Что же касается точности в подробностях, она есть условие, необходимое для исторического романиста, но не более чем условие, и его не следует принимать за конечную цель повествования. Цель эта должна быть сведена не к описанию случайного, а к познанию причин и самого хода истории. И в этом отношении Скотт более, чем у кого бы то ни было, еще мог учиться у Шекспира, чьим художественным и философским открытием было Время, понимаемое как причинная связь явлений в их развитии: «Есть в жизни всех людей порядок некий...» («Генрих IV», перевод E. Бируковой).
И все-таки Шекспир — писатель иной эпохи и иного мышления. Скотт ищет путь к истории не в драме, а в романе. Скотт ей также отдал дань — первым произведением, напечатанным под его именем, был перевод исторической драмы Гёте «Гец фон Берлихинген» (1799). Однако уровень развития сценической и драматической условности не позволяет создать художественное полотно одновременно грандиозное и достаточно подробное. Колорит истории и ее размах были воссозданы Скоттом в романе.
Местный колорит (франц. couleur locale) — понятие как географическое, так и историческое. Оно предполагает увлечение экзотикой других эпох, других земель и их подробное описание.
Скотт не был в числе первооткрывателей местного колорита. Он сам признает первенство за «готическим романом» X. Уолпола «Замок Отранто» (1765), в котором особенно ценит намерение «посредством тщательно продуманного сюжета и заботливо воспроизведенного исторического колорита тех времен вызвать в сознании читателя сходные ассоциации и подготовить его к восприятию чудес, конгениальных верованиям и чувствам самих персонажей повествования».
Эти слова написаны Скоттом в 1820 г. в предисловии к новому изданию романа X. Уолпола. К этому времени он сам далеко превзошел мастерство своего предшественника в умении создавать иллюзию прошлого.
Скотт также ценил местный колорит, но он любил почувствовать несходство эпох не для того, чтобы противопоставить их. Для него главным было понять связь прошлого с настоящим, обнаружить в истории истоки сегодняшних проблем и событий.
История Шотландии, родного края, вошла в детскую память писателя балладами, преданиями. Скотт начинал как поэт, собирая баллады шотландской и английской границы, подражая им. Баллада — один из фольклорных жанров, сохраняющих память о жизни народа. Романтики не могли ею не увлечься, заимствуя у баллады и ощущение событий, таинственных, мрачных, героических. Баллада учит Скотта проникаться духом прошлого и подводит его к роману.
Скотт знает историю не только по народным преданиям и песням. Уже знаменитым романистом он так сравнивал себя с многочисленными своими продолжателями и подражателями: «Им, чтобы набраться знаний, приходится читать старые книги и справляться с коллекциями древностей, я же пишу потому, что давно прочел все эти книги и обладаю благодаря сильной памяти сведениями, которые им приходится разыскивать. В результате у них исторические детали притянуты за волосы...» (запись в дневнике от 18.11.1826).
Таков был личный опыт писателя и характер исторического мышления в литературе, когда Скотт взялся за создание исторического романа, следуя правилу: «Чтобы заинтересовать читателя, события, изображенные в произведении, нужно перевести на нравы эпохи, в которой мы живем, так же как и на ее язык».
Это кажется неожиданным, едва ли не отступлением от принципа исторического колорита. Как будто бы Скотт предлагает делать то, что в XX в. назовут «модернизацией» истории и осудят как ошибку в изображении прошлого. Ошибочно понимать прошлое исходя лишь из настоящего, но нельзя забывать и о том, что произведение на историческую тему — это неизбежно рассказ о двух эпохах: о той, когда живут герои, и о той, когда живет автор.
Только после того как чувство местного колорита приучило европейцев видеть и понимать различие эпох, могла в полной мере утвердиться сама идея исторического процесса. Процесс, которым движет не случай, не судьба, не воля великой личности, а сложное взаимодействие обстоятельств. Закономерность истории не предрешена и труднопонимаема, но ее тем не менее пытается постичь каждый, кто задумывается о смысле совершающихся событий.
Скотт был в числе первых выразителей новой исторической концепции, в своем художественном историзме обгоняя порой движение научной мысли. Однако ему, писателю, было недостаточно одного лишь осознания новых идей, он должен был найти для них соответствующую форму.
Круг понятий Исторический роман:
«готический роман»
«археологический роман»
местный колорит закономерность
процесс
осовременивание
Композиция романа и концепция истории
Первые романы Вальтер Скотт написал о Шотландии.
Помимо того что этот материал был хорошо знаком писателю, гордившемуся своим происхождением от одного из пограничных с Англией кланов, он давал ему и ощутимые преимущества. Рядом с английской культурой на всем пути ее развития существует иной культурный тип, отличный по своему уровню, более архаичный, со своими национальными чертами, восходящими не к германским племенам, как у англичан, а к кельтам. Патриархальный еще и в XVIII в. мир шотландских горцев предлагает историческому романисту тему сосуществования не только разных народов, но и разных эпох.
Многие просветительские идеи могли пройти здесь проверку в условиях самой историей поставленного эксперимента: что же представляет собой «естественный человек»? Выше он или ниже современного европейца по своим нравственным качествам? Совершается прогресс или регресс при переходе от естественного состояния жизни к ее более цивилизованным и развитым формам?
О всей шотландской культуре нельзя было судить только по горцам: в южной части страны, в ее крупных городах, уровень просвещенности был фактически тот же, что и в Англии. Однако это не снимало иных — социальных, религиозных, этнических — противоречий между двумя частями королевства.
«Уэверли» и последовавшие за ним романы «Гай Мэннеринг» и «Астролог» оставались в пределах XVIII в., все более приближаясь к сегодняшнему дню. Осторожность, с которой Скотт подготавливает путешествие в более отдаленное прошлое, понятна у романиста, поставившего себе целью не уходить в прошлое, а приблизить его и увидеть в свете сегодняшнего дня. Первый роман, в котором он вышел за пределы XVIII в., — «Пуритане» (1816). Его действие начинается в 1679 г., а события представляют предысторию к тем потрясениям, мятежам, которые Скотт изобразил в романах предшествующих.
Сумма противоречий между Англией и Шотландией может быть сведена к двум основным пунктам:
в религии шотландцы-пресвитериане исповедуют более радикальный вариант протестантской веры и не приемлют умеренного, компромиссного англиканства, официальной религии в самой Англии;
в политике шотландцы и особенно патриархальные горцы выказывают себя сторонниками изгнанных Стюартов (чей род происходит именно из Шотландии!), которые именно через Шотландию предпринимают попытки возвращения в страну. Ряд якобитских (т. е. предпринятых сторонниками Стюартов — по имени изгнанного короля Якова) восстаний Скотт делает темой отдельных романов: 1715 г. — в «Роб Рое», 1745 г. — в «Уэверли».
Восстание 1679 г. в «Пуританах» явилось результатом волнений, охвативших всю страну. Поводом для них стал вопрос о престолонаследии, в ходе обсуждения которого в парламенте впервые возникают и получают свои названия две партии — тори и виги.
На этом историческом фоне начинается восстание в Шотландии: убийство архиепископа Шарпа, мятежное движение проповедника Камерона, ответные жестокости «красных курток» — солдат короля, англичан... Шарп, его убийца — ревностный пуританин Берли, командующий королевскими войсками полковник Клеверхауз — все это подлинные исторические лица. За ними множество других, вымышленных Скоттом. Впрочем, в романе иная перспектива: подлинная история — фон, персонажи вымышленные — на авансцене.
Такая композиция — одно из открытий Скотта, одна из существенных структурных особенностей созданного им типа исторического романа. Любовь Генри Мортона и Эдит Белленден здесь или аналогичный беллетристический прием в других романах служит связующей сюжетной нитью. Заинтересованность героями превращается в заинтересованность событиями.
Композиция вальтер-скоттовского романа: вымышленный герой в центре событий, он раздираем противоречиями, ему предстоит трудный выбор между враждующими крайностями. Подлинная история проходит фоном для сюжетной интриги. Так соотносятся вымысел и факт.
Позиция героя становится выражением важного момента исторической концепции писателя. Скотт настаивает на том, что в ходе исторического развития вопреки всем крайностям, ошибкам, преступлениям торжествует нравственное начало. Вальтер Скотт согласился было с Ж.-Ж. Руссо в том, что мерой прогресса является нравственность. Но в отличие от француза Скотт был готов признать, что человечество на правильном пути.
Круг понятий Вальтер-скоттовский роман:
факт и вымысел
вымышленный герой
исторический фон нравственное начало
идея прогресса
компромисс
Герой и народ
Желание Скотта решать исторические проблемы под нравственным углом зрения не раз вызывало полемику. В самом этом желании усматривали ограниченность исторической концепции. Скотт был одним из первых, кто понял и показал историю как результат столкновения не отдельных воль, а столкновения человеческих масс.
В отношении Скотта к роли народа в истории чувствуются уроки шекспировского историзма, но в гораздо больше мере, чем Шекспир, он склонен ощущать опасность народного возмущения. Народ — огромная сила, но легко становящаяся жертвой собственных предрассудков, неоправданных пристрастий, демагогии политических деятелей. Скотт предпочел бы, чтобы история совершалась с учетом этой силы, которую, однако, лучше не пускать в действие, чреватое потрясением всей общественной жизни, нарушением ее порядка.
По своим политическим воззрениям писатель был консерватором, тори, т. е. принадлежал к партии, противящейся переменам, в том числе и парламентской реформе. Консервативный традиционализм — убеждение Скотта, которое, несмотря на всю популярность писателя, делает его непопулярным общественным деятелем. За год до смерти во время предвыборной кампании он был освистан толпой, а его карета забросана камнями.
Черты этой позиции сказываются и в романах, может быть, всего отчетливее в характере центрального героя. Пожалуй, ничто не вызывало и не продолжает вызывать бóльших нареканий в романах Скотта, чем созданный им тип героя. Писатель и сам не раз соглашался со своими критиками, например в авторецензии на сборник романов «Рассказы трактирщика»: «...личность героя совершенно лишена интереса для читателя...» И еще не раз в том же духе.
Что же мешало Скотту отказаться от героя или изменить его?
По линии литературной традиции герой Скотта восходит к герою просветительского романа, поставленному в центре повествования и являющемуся итогом авторских раздумий о природе человека. Герой Скотта не идеал, но напоминание об идеале; побуждаемый обстоятельствами, он совершает ошибки, но лишь для того, чтобы раскаянием искупить их и еще более упрочиться в своем стремлении к разумности и добру.
Сама его веротерпимость, желание понять и найти свою справедливость даже в противоположных, враждующих взглядах превращает его порой в игрушку в руках людей, правда, ненадолго, лишь пока он не приобрел опыта, не разобрался, где истина. Только до этого момента он подвержен колебаниям.
Своему первому герою Скотт дает говорящее имя — Уэверли (англ. waver — колебаться). Колеблющийся герой, которому предстоит утвердиться в своих нравственных принципах, — таков путь его становления.
Этот путь проходят и Уэверли, и Генри Мортон («Пуритане»), и Фрэнк Осбалдистон («Роб Рой»), и Айвенго — пусть в различных обстоятельствах, с индивидуальными вариантами. Сходство между ними сильнее различия. Через образ героя Скотт не устает проводить свое понимание того, каким должно быть поведение человека в сложных исторических обстоятельствах. В повторении возникает избыточный дидактизм; тип героя воспроизводится снова и снова, но не потому, что он для автора как бы не важен, что разработке его характера уделено менее внимания, чем характерам второстепенным.
Напротив, Скотт идет на повтор, даже зная о нем, ибо в нем выражает себя самое важное нравственное убеждение.
Хотя и увлекающийся, чувствительный, вовлеченный в любовную интригу и перипетии исторических событий, герой Вальтера Скотта остается наименее романтичным из числа всех его персонажей, и не потому, что романтизм в нем преодолен. В нем еще слишком много от предшествующего столетия, если не в свободе толкования нравственности (которую Скотт уже сильно ограничил), то в последовательности, с которой проводится сама нравственная идея. И читатель знает, что к концу все трудности будут разрешены и вознаграждение найдет героя.
Разумеется, герои не всех романов равно подчинены единому образцу. Ироничный, и прежде всего по отношению к самому себе, Фрэнк Осбалдистон, лишь спустя много лет повествующий о событиях, в которых ему, юному и наивному, довелось участвовать. Замкнутый и пылкий, гордый и униженный Генри Мортон — пожалуй, наиболее глубокий и оригинальный по разработке образ. А вот Айвенго, несмотря на все свое благородство и доблесть, «по-человечески» бледен; не случайно этот роман и этот герой дважды были спародированы У.-М. Теккереем, сожалевшим, что Скотт не решился остановить выбор своего героя на страстной и одухотворенной Ревекке, а заставил его избрать скучно-добродетельную леди Ровену.
Так благородство противопоставленной любому фанатизму нравственной позиции в истории, отстаиваемой Скоттом, сочеталось у него с моральной строгостью, сдерживающей изображение естественных чувств. Более всего это сказалось на том, каким является в романе главный герой, выступающий в роли героя-резонера, и менее в характерах остальных персонажей, ярких, причудливых, исполненных странностей и остроиндивидуальных.
Они есть в каждом романе, их портреты создаются в духе романтических контрастов, игры света и тени, добра и зла. Лучшие из них те, в ком не преобладает какой-то один оттенок — злодейства или благородства, но они смешаны в сложной гамме человеческой натуры. Особенно много такого рода удач у Скотта при создании персонажей из народа, несущих в себе черты национального характера. Один из них — Роб Рой. По его имени и назван роман, хотя очень редко у Скотта имя не центрального героя, но персонажа даже как будто бы второстепенного, принадлежащего фону, выносится на титульный лист. Однако это справедливо, ибо именно характер Роб Роя, шотландского горца, определяет атмосферу романа: исторический фон в романе — это фон народной истории.
В романе Роб Рой изображен дважды и по-разному: его документальный портрет дан в предисловии, художественный — в тексте повествования. Они принципиально различны. Второй явно более привлекателен. Реальный Роб Рой был одним из вождей горных кланов, живших грабежом и одновременно торговлей, достаточно расчетливым и ловким. В романе Скотт романтически усилил контрасты, ибо судьба героя — судьба его народа, не раз становилась жертвой обмана в политических играх. Своих врагов Роб Рой побеждает великодушием. А его коварство, жестокость — это черты иного исторического бытия, исчезновение которого Скотт воспринимает как неизбежное, но и сожалеет о нем, уносящем с собой неповторимость культуры и человеческого характера.
По ходу повествования Роб Рой несколько раз вырастает рядом с Фрэнком в трудные для него минуты. В этом общении герой получает не только помощь, но и погружается на ту глубину жизни, где и может быть почерпнут опыт познания самой истории, ее скрытых от глаз причин.
Народ у Скотта воплощает ту силу, которая и сообщает истории способность к развитию, силу необузданную, которая может выйти из берегов, но все-таки поражающую красотой как в своем стихийном разливе, так и в своем спокойном, играющем множеством красок мирном бытии. Народ и герой у Скотта воплощают противоположные начала, но не враждебные друг другу: одно из них сообщает силу движению, другое разумно направляет и сдерживает эту силу.
История и современность
Поставив себе целью объяснение прошлого в его связи с современностью, Скотт был далек от того, чтобы превращать картину времен прошедших в иносказание на темы политической злобы дня. К такого рода «модернизации», скрытым аллюзиям прибегали издавна: подразумевая сегодняшний день, облекали сюжет в исторические декорации и костюмы.
Скотт поступал иначе. Он сближал эпохи, каждая из которых в этом сближении не утрачивала ни своего колорита, ни своих специфических проблем. Современная политическая ситуация могла лишь подсказать выбор событий, опыт которых ценен для сегодняшнего дня, но не более того.
Так, не случайно в годы завершения Наполеоновских войн в Европе, в ходе которых европейское сознание с новой остротой решало для себя проблему великой личности и ее роли в истории, Скотт обратился к мятежам и потрясениям, в которых рождалась новейшая история его страны — Англии. Там он искал истоки событий, по поводу которых он выскажется и как историк — в девятитомной «Жизни Наполеона Бонапарта» (1827). Ни в романах, ни в исторических сочинениях он не признал за великой личностью права вершить народные судьбы и, более того, опроверг это право с точки зрения законов самого хода исторических событий.
По его мнению, истинное величие принадлежит лишь тому, кто, не пытаясь в одиночку и произвольно вмешиваться в движение истории, способствует упрочению в ней разумного порядка. В том, как Скотт представлял себе этот порядок, в нем самом ощущался политик-тори.
Близкой к идеалу Скотт был готов признать современную Англию. Именно в ней он находил необходимое равновесие исторических сил: сочетание традиционного начала, воплощенного земельной аристократией, и нового денежного интереса — сильной английской буржуазии. Прослеживая в романах истоки современности, он не упускал из виду появление на арене истории новых деловых людей, наиболее подробно изобразив этот процесс в «Роб Рое».
Фрэнк Осбалдистон — сын крупного дельца лондонского Сити, ведущего свой род от почтенного семейства нортумберлендских дворян, что, однако, не помешало ему считать «самым жалким видом тщеславия ту слабость, которая обычно именуется фамильной гордостью». Фрэнк, хотя и получил образование, чтобы занять место в отцовской конторе, по своей поэтической натуре не питал склонности к ведению финансовых дел. Это и послужило поводом для семейного разлада, завершившегося отправкой младшего Осбалдистона в родовое гнездо на границе с Шотландией — место обитания его дяди и кузенов, сельских сквайров, по обычаю этого сословия предававшихся пьянству и охоте.
По дороге в имение и происходит первая встреча молодого лондонца с Роб Роем (напоминающая встречу Петруши Гринева с Пугачевым), случившаяся в преддверии мятежа и имевшая важные последствия.
Роман «Роб Рой» считают сюжетной моделью, которой воспользовался Пушкин в «Капитанской дочке», определяя свое отношение к народному бунту. Какие именно черты вальтер-скоттовского романа и его концепции истории были восприняты или оспорены Пушкиным?
Вслед за героем и читатель вступает в мир тайных интриг, заговора, имеющего целью вернуть на трон претендента Стюарта, а затем в загадочный мир горцев. Однако Скотт не нагнетает романтичность, строит интерес не на усилении загадочности, а на объяснении событий, отношений, вызванных вполне определенными историческими причинами. По мере того как рассеивается тайна, сознанию героя открывается поражающая своей неожиданностью прозаическая истина: вся страна, а наверное, и весь мир существуют по единым законам, связаны ими, и «торговые дела лондонских купцов влияют на ход переворотов и восстаний».
В серии шотландских романов Скотт изучает недавние истоки современной истории, сопоставляет уходящее с тем, что набирает силу и властно входит в завтрашний день.
Казалось бы, искомое соотношение прошлого и настоящего, факта и вымысла найдено для себя Скоттом. Однако в искусстве теоретические решения не имеют окончательной силы: каждый найденный прием должен быть заново оправдан даже при незначительной смене материала, на котором он применяется. Оставляя пределы Шотландии, переходя к английской истории, Скотту приходится искать новые художественные мотивировки. Прежде всего меняется дистанция, отделяющая время действия от сегодняшнего дня: не шестьдесят и даже не полтораста лет, а несколько веков.
В первом собственно английском романе — «Айвенго» (1819) действие отнесено к концу XII в. Это начало — начало формирования английской нации. Хотя со времени завоевания древнегерманского государства норманнами в 1066 г. прошло более ста лет, но завоеватели все еще остаются чужеземцами, грабящими чужую страну. Завоеванные лишены прав, даже если, подобно старому Седрику, принадлежат к числу влиятельнейших и древних саксонских феодалов.
Как передать колорит эпохи столь отдаленной?
В первой же сцене, прежде чем дать возможность своим героям заговорить, Скотт задается вопросом: а на каком языке должны беседовать его герои? «Приводить их разговор в оригинале было бы бесполезно для читателя», поскольку ранний среднеанглийский язык, на котором должны говорить слуги Седрика-саксонца, непонятен знающему современный английский язык.
Как решил Скотт лингвистическую проблему в «Айвенго»?
Диалог между пастухом Седрика Гуртом и его шутом Вамбой вошел в учебники по истории языка, ибо темой его и стал сам язык, его меняющийся строй. Гурт удивляется тому, что свинья или теленок, пока они под его присмотром ходят по земле, называются старым германским словом (swine, calf), но как только они отправляются на господский стол, то превращаются в свинину и телятину (pork, veal — слова романского происхождения, пришедшие из языка завоевателей, говоривших по-французски). Ответ на этот вопрос характеризует не только языковую, но и социальную ситуацию: кто владеет, тот и называет. Предметы роскоши, в том числе кушанья, обозначаются французскими словами. Так остается и в современном английском языке. Тогда — в конце XII столетия — процесс создания единой нации со своим языком, культурой, с чувством единой родины еще только начинался.
В английских романах Скотт все чаще начинает менять композиционный строй, отказываясь от уже найденных и с таким блеском оправдавших себя повествовательных приемов. Перемена вначале свидетельствует о продолжающемся поиске новой формы. Взятые крупным планом исторические лица позволяют изменить характер живописи: от бытовых и батальных сцен, характеризующих смысл событий эпохи, перейти к ее изображению через портрет, углубляясь в психологию. Здесь есть свои удачи: «Кенилворт», «Квентин Дорвард»...
Однако затем композиционная перестройка романной формы оказывается мерой вынужденной. Скотту приходится торопиться и выдвигать на первый план развлекательный момент. Причина тому — новая жизненная ситуация, в которой оказался писатель. С присущим ему благородством, не желая допустить разорения многих людей, которому он был пусть и косвенным виновником, Вальтер Скотт в 1826 г. принимает на себя огромные долги (130 тысяч фунтов стерлингов) своего обанкротившегося издателя и типографщика. Остаток жизни проходит в непосильных трудах, окончательно подорвавших здоровье писателя и сказавшихся на качестве его поздних произведений.
Но к этому времени ничто уже не могло поколебать славы Вальтера Скотта. В глазах всей Европы он сохраняет признание создателя нового по своему типу романа.
Темы для докладов
Что такое местный колорит в понимании писателей-предромантиков и Вальтера Скотта?
Черты вальтер-скоттовского романа в «Капитанской дочке».
Литература
Пушкин А. С. О романах Вальтера Скотта.
Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. — М., 1996.
Долинин А. История, одетая в роман. — М., 1988.
Пинский Л. Исторический роман Вальтера Скотта / Л. Пинский // Пинский Л. Магистральный сюжет. — М., 1989.
Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. — М.; Л., 1965.
1 Обсуждая вопрос о том, читал ли Пушкин Гёте до 1825 г., чаще ограничиваются ссылкой на Б. В. Томашевского: «Он знал немецкую поэзию по книгам Мадам де Сталь». Однако, когда речь идет о гении, трудно бывает восстановить даже не объем знаний, а глубину проникновения, которая, удивляя исследователей, оказывается гораздо большей, чем можно было бы предположить, зная о том, каким был посредник. Едва ли не самым ранним свидетельством интереса Пушкина к «Фаусту» является эпиграф из него, взятый по-немецки (!) для первого варианта «Кавказского пленника» (1820): «Gieb eine jügend mir zurück». Goethe. Faust».
2 Алексеев М. П. К «Сцене из Фауста» Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. — 1976. — М., 1979.
3 Глебов Гл. Пушкин и Гёте // Звенья. II. — М.; Л., 1933. — С. 41.
4 Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993. — С. 349.
5 См.: Вацуро В. Э. Последняя элегия Батюшкова: К истории текста // Вацуро В. Э. Записки комментатора. — СПб., 1994. Более подробно о контексте, созданном байроническим мотивом моря в русской поэзии, см.: Шайтанов И. О. Федор Иванович Тютчев: поэтическое открытие природы. — М., 1998. — C. 103—123.
6 А. Л. Бем предположил, что если у Гёте и есть прямая параллель в пушкинской сцене, то это сцена «Лес и пещера»: «Именно здесь Фауст вспоминает о минутах блаженной любви с Маргаритой, и здесь Мефистофель едко иронизирует над его чувством» (Бем А. Л. «Фауст» в творчестве Пушкина // Бем А. Л. Исследования: Письма о литературе. — М., 2001. — С. 185).
7 Бем А. Л. «Фауст» в творчестве Пушкина. — С. 205 (А. Л. Бем ссылается на согласное с его собственным в этом отношении мнение С. Франка).
Урок по реалистическому роману
ТВОРЧЕСТВО ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА В ВИКТОРИАНСКОМ КОНТЕКСТЕ
О романах Диккенса речь шла в учебнике для 8—9 классов. Значительная часть материала предложена в данном разделе в качестве повторения, но также и с новым проблемным акцентом. Перечитывая Диккенса, следует обратить внимание на разнообразие жанровых типов, к которым принадлежат его романы, особенно нужно выделить связь с просветительским романом воспитания. Диккенс вносит коррективы как в просветительскую концепцию воспитания, так и в созданный им романный жанр, который ориентируется на то, что собой представляет воспитание в викторианской Англии. Центральным произведением при такой постановке проблемы должен стать роман «Домби и сын». В тексте учебника для 10—11 классов намечено его полемическое сопоставление с романом У.-М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
Комическая эпопея, написанная журналистом
Мир романов Диккенса — Лондон. Вначале Лондон старинных экипажей и почтовых карет, а потом Лондон железных дорог и промышленного бума.
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу áнглийский язык, —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Чтó было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.
О. Мандельштам
Чарлз (Чарльз) Диккенс (1812—1870) — один из величайших романистов мировой литературы. Мало кто может сравниться с ним в повествовательной свободе, в богатстве словесных образов. Его язык метафоричен не как у прозаика, а как у поэта. Нам может показаться, что Диккенс слишком сентиментален в своей любви, что ему очень хочется создать для своих настрадавшихся героев уголок тихого счастья. Но вспомним слова Александра Блока: «Эти уютные романы Диккенса — очень страшный и взрывчатый матерьял; мне случалось ощущать при чтении Диккенса ужас, равного которому не внушает и сам Э. По» («Кризис гуманизма»).
В Лондоне Диккенс прожил почти всю жизнь и знал его вдоль и поперек, знал и его парадный фасад, и его страшные задворки. Уже взрослым человеком он предпочитал обходить стороной то место, где ребенком работал на фабрике ваксы — клеил этикетки к жестяным коробочкам. Зарабатывать на хлеб пришлось рано: отец наделал долгов и попал в долговую тюрьму.
Среди профессий, которыми Диккенс овладел в юности, была и журналистика. В двадцать лет он приобрел себе имя очерками повседневной жизни, печатавшимися под псевдонимом Боз. Тогда ему пришлось узнать и трущобы, и притоны, и тюрьмы. Современность оказалась богатой тайнами, но тайны эти были грязны и неприглядны.
Из журнализма родился первый роман Диккенса — о мистере Пиквике.
«Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836—1837)
В 1836 г. Диккенсу заказали серию подписей к рисункам известного карикатуриста Сеймура. Серия должна была выходить отдельными выпусками и изображать забавные похождения джентльмена, выдающего себя за прославленного спортсмена. Но с самого начала стало ясно, что писатель вытесняет художника. Текст стал главным элементом и вырос в роман о Пиквике и его друзьях, путешествующих по Англии.
Роман имел грандиозный успех, а имя Диккенса стало знаменитым. Впрочем, первая удача легко могла обернуться и неудачей. В самом материале для Диккенса таились опасности. Во-первых, он плохо знал спорт, который быстро входил в моду. Чемпионов по скачкам и боксу чествовали как знатных особ. Диккенс оттеснил спорт на второй план, ограничив его сюжетной линией трусливого Уинкля — комичными сценами катания на коньках и верховой езды.
Во-вторых, Диккенс помнил провинциальную Англию лишь по впечатлениям раннего детства. Вот почему по-настоящему повествование в романе обретает уверенность, когда события перемещаются в Лондон, а у пиквикистов появляется слуга Сэм Уэллер. Он сыплет афоризмами на кокни.
Кокни — так называют жителей Лондона и диалект, на котором говорят простолюдины. Это слово, означающее избалованного ребенка, издавна употреблялось как имя карнавального персонажа. Для Диккенса лондонский говор стал одним из источников его великого юмора, восходящего к карнавальному смеху.
Что такое карнавал и кто такой шут? Посмотрите в учебнике раздел «Три типа средневековой культуры» (гл. 3) и гл. 6 об У. Шекспире.
Сэм Уэллер выступает в роли шута. Его диалект непередаваем на другом языке, но его едкие мудрости понятны и в переводе. Для Уэллера нет ничего безысходного и безусловно окончательного: «Прочь печаль, как сказал школьник, когда умерла учительница». Не нужно попусту жалеть о том, чего не исправишь, и «это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следовало» (перевод A. B. Кривцовой и Евгения Ланна). Жизнь продолжается, и смех обновляет ее.
Если добрейший Пиквик исходит исключительно из того, как все должно быть (не так ли некогда поступал Дон Кихот?), то Сэм Уэллер (не напоминает ли он Санчо Пансо?) гораздо лучше разбирается в том, как этот мир действительно устроен. Он не раз приходит на помощь Пиквику, стараясь не уклоняться от праведных путей, но и не слишком настаивая на правде, если она может повредить хозяину. Как говорит Уэллер, выступая в качестве свидетеля на судебном процессе, подстроенном против Пиквика, «у меня глаза, а не микроскопы».
Пиквик не обладает даром остроумия, но у него есть чувство юмора. В еще большей мере он дает повод посмеяться читателю.
Если юмор Сэма Уэллера проницателен и заземлен, то юмор Пиквика (как сказал известный австрийский писатель Стефан Цвейг) освобождает «от гнета земного притяжения».
Таинственно непонятными оказываются для Пиквика самые простые вещи, а если их ему не успевают объяснить, то случается очередное недоразумение, из которого героям приходится выпутываться. Пиквик — герой-джентльмен, существующий в условиях жизни, которая не вписывается в джентльменский кодекс поведения. Пиквик настаивает на своем, готов бороться за правоту и приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.
Герой-джентльмен навсегда остается среди персонажей Диккенса, появляясь в качестве спасителя «униженных и оскорбленных». Впрочем, джентльмен далеко не всегда бескорыстный добряк. Есть и другая порода людей из приличного общества — черствый, расчетливый делец, «ледяной джентльмен».
Диккенс ценит метафору и умеет реализовать ее внутренний смысл. Пейзаж человеческой души у него материализуется в картинах природы. Может быть, именно Диккенс создал устойчивое впечатление о том, что в Англии постоянно идет дождь, дует пронзительный ветер, а города засыпаны угольной пылью, которая вместе с туманом окутывает остров густым смогом. Дождь, холод, ветер — в одних случаях это напоминание о температуре человеческой души, в других — повод вспомнить о тепле и доме, где так славно было бы обогреться.
Роман-памфлет
«Мой дом — моя крепость» — английская мудрость. А как быть тем, у кого нет своего дома, кто не защищен от непогоды в прямом и в метафорическом смысле? Насмешкой над понятием «дом» стали работные дома, куда по закону о бедных (1834) должны были свозить всех нищих и бродяг. Прежде о них заботился церковный приход, т. е. общество, теперь их передали в ведение закона.
Насколько человечен закон о бедных, люди, его исполняющие, и общество, его принявшее? В ответ на этот вопрос Диккенс пишет свой второй роман — «Приключения Оливера Твиста» (1837—1839).
«Приключения» — в данном случае обманчивое слово. Сказка — это обманчивое впечатление от романа, хотя он и завершается по-сказочному счастливым концом. В действительности, судя по оперативности ответа, который дает писатель на социальную проблему и попытку ее разрешения законодательным путем, «Оливер Твист» — роман-памфлет, написанный автором, не забывшим, что он начинал как журналист.
Памфлет — сатирическое произведение, написанное с целью опровержения или обличения. В роли памфлета может выступать и журналистский очерк, и поэма, и роман.
Причина сказочности в романах Диккенса тоже понятна. На жестокость закона Диккенс отвечает требованием доброты, отзывчивости, которой каждый человек вправе ожидать от своего ближнего. Увы, ожидание исполняется не слишком часто.
Роман начинается в работном доме с рождения героя, которое окутано тайной. Молодая женщина умерла, едва успев увидеть свое дитя. О ней ничего неизвестно: накануне ее принесли, подобрав на улице умирающей от голода и измождения.
«Приключения» Оливера Твиста протекают в местах безрадостных. Он родился в работном доме, затем был отправлен на ферму, где приход до определенного возраста содержал сирот, чтобы затем снова вернуть их в работный дом и заставить трудиться в поте лица своего за миску жидкой каши. В свои девять лет Оливер оказался закоренелым бунтовщиком, когда попросил добавку.
После этого было решено не оставлять Оливера в работном доме и отдать в учение. Если бы мальчика заполучил первый претендент на него — трубочист, то «приключения» Оливера завершились бы гораздо быстрее: трубочисты для простоты производственного процесса загоняли мальчиков прямо в трубу, где те задыхались от сажи, а порой и от дыма. Но вид трубочиста был столь зверским, что даже члены совета не дали своего согласия. И Оливер был отправлен на учение к гробовщику.
Учение длилось недолго: Оливер снова взбунтовался. Он бросился защищать память матери, когда о ней грубо сказал старший мальчик, и был посажен за это в чулан. Наутро Оливер бежал и оказался на большой дороге, ведущей в Лондон. Умирающим от голода и зимней стужи его встретил и накормил Ловкий Плут, член воровской шайки, в которую он и доставил своего нового знакомца.
Сцены воровского Лондона потрясли современников. В предисловии к отдельному изданию романа Диккенс объяснил свой замысел тем, что нигде ему не довелось прочесть о жизни лондонского дна, изображенной сколько-нибудь правдиво, хотя романы о преступлениях становились все более популярными у читателя:
«Я читал десятки книг о ворах: славные ребята (большей частью любезные), одеты безукоризненно, кошелек туго набит, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах...
Но я нигде не встречался... с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую нищую жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, — вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда бы ни взглянули, вечно маячит перед ними большая черная страшная виселица, — мне казалось, что изобразить это — значит попытаться сделать то, что необходимо и что сослужит службу обществу».
Перед нами проходит целая галерея преступников. Сначала это Ловкий Плут. В свои едва ли полные пятнадцать лет он карманник, оправдывающий прозвище и продолжающий совершенствоваться в мастерстве под руководством опытного наставника Феджина.
Образ Феджина — целый набор масок, сменяемых по мере необходимости. Добрый, едва ли не жалкий старикашка, он в одно мгновение преображается и становится страшным для любого противника. Даже для Билла Сайкса. Если портрет Феджина замечателен игрой разнообразных красок, то портрет Сайкса — своим однообразием. В нем только темные тона: безжалостный взломщик и убийца. Он распространяет вокруг себя дух жестокости. Это особенно очевидно в его отношениях с белой красноглазой собакой, ставшей лейтмотивом его образа. Собака отличается «таким же скверным нравом, как и ее владелец...» (гл. XV).
Лейтмотив — повторяющееся выражение, деталь, поступок, становящиеся постоянной характеристикой персонажа или сюжетного действия.
Собака Сайкса — продолжение его собственного зверства, его двойник, его метафорически реализованное подобие. Иногда они ссорятся, и тогда сходство становится полным: Сайкс, «опустившись на колени, злобно атаковал животное. Собака металась из стороны в сторону, огрызаясь, рыча и лая, а человек ругался, наносил удары, изрыгал проклятия...».
С Сайксом связаны две знаменитые и страшные сцены романа: убийство им Нэнси и его собственная гибель. Нэнси — одна из девушек в шайке Феджина, попавшая туда в детстве и воспитанная в согласии с принятыми обычаями. Но, как известно, не все плоды воспитания прививаются, в том числе и дурные. Природа человека сопротивляется злу, хотя может ему и уступить.
В мире преступления не вполне исчезают черты человечности. Но в том мире, где должна царить если не человечность, то закон и добропорядочность, далеко не все обстоит благополучно. Это становится ясным по мере того, как раскрывается тайна — тайна происхождения Оливера Твиста. Его отец, соблазнивший девушку и обрекший ее на гибель, был джентльменом, другом добрейшего мистера Браунлоу, который, искупая этот грех, станет одним из спасителей Оливера.
Виновник злоключений Оливера, его злейший враг, также принадлежит к миру богатых. В романе он действует под именем Монкса. Во исполнение его плана Феджин должен сделать из Оливера преступника и тем самым навсегда закрыть для него путь возвращения к людям, ему близким. Мотив Монкса — деньги, часть наследства, которым он должен поделиться с Оливером, своим сводным братом.
Счастливый финал отвечает нравственному убеждению Диккенса.
Нравственный смысл счастливого финала в романах Диккенса: хорошие люди должны быть счастливыми.
Итак, злые наказаны: Сайкс погиб, Феджин повешен. Добрые вознаграждены, а счастье в этом несовершенном мире невозможно без денег. Оливер обретает семью (он встречает сестру своей покойной матери — добрую и прекрасную Роз Мейли), получает причитающуюся ему долю наследства.
Тайна раскрыта, зло побеждено. Впервые именно в этом романе Диккенс поручает дело расследования не только добрым джентльменам, но и профессиональным сыщикам с Боу-cтрит. На Боу-cтрит в середине XVIII в. было открыто первое сыскное агентство. В числе его создателей — великий английский романист Генри Филдинг. Диккенс продолжил его дело, обратив внимание на проблему раскрытия преступления именно в тот момент, когда на смену агентству на Боу-cтрит приходит полицейское управление Скотленд-Ярд (дословно — шотландский двор, поскольку в этом здании первоначально размещалось представительство Шотландии в Лондоне).
Когда покров тайны снят, обнажаются социальные пороки всего общества. Это, может быть, самая главная тайна: то, что происходит на дне общества, связано с тем, как следуют нравственным заповедям люди, обосновавшиеся на верхних ступенях социальной лестницы. Общественный верх и низ отражены друг в друге: наверху принимают закон о работных домах, внизу — в этих домах живут.
Роман воспитания на викторианский манер
Диккенс все более убеждается в единстве общественного механизма и хочет сделать его истиной, доступной читателям. Речь прежде всего должна идти не о преступлении того или иного человека, а об обществе, порождающем преступность. В заглавиях первых романов Диккенса всегда стояло имя героя. Писатель подчеркивал, что нравственная личность находится в фокусе его внимания. Тем более значимым стало отступление от этого принципа в романе «Домби и сын».
«Домби и сын» (1846—1848) — что это? Имена людей? Нет, название фирмы, что подтверждает и полное название романа: «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт». История о том, как в мистере Домби делец и «ледяной джентльмен» борется с человеком, и о том, кто становится жертвой этой борьбы.
Социальная функция подчиняет человека. Дело убивает нравственную личность. Закон, вместо того чтобы карать виновных и оправдывать невинных, превращается в машину, которая гоняет человека по коридорам суда и отпускает лишь после того, как лишает его последней копейки и надежды восстановить справедливость. Об этом у Диккенса еще один роман, названный не по имени героя, а метафорически обобщенно — «Холодный дом» (1852—1853). Холодом и ужасом веет не только от преступления, но и от того, как общество пытается с ним бороться.
В названии романа «Тяжелые времена» (1854) Диккенс прибегает уже к расхожей языковой метафоре, чтобы поставить диагноз «железному веку» в его отношении к страдающей человеческой личности.
Больше всего в этом мире страдают слабые и незащищенные. Среди них дети, для кого первым тестом на выживание оказывается процесс воспитания. Он начинается едва ли не в колыбели, но страшнее всего школа. Викторианские воспитательные теории кажутся теперь странными и неприемлемыми, но тогда им придавали большое значение.
Роман воспитания
Кем и когда он был создан?
Со времен эпохи Просвещения было принято считать, что если вы хотите изменить мир, то нужно изменить человека. Правда, просветители полагали лучшим путем воспитания возвращение к природе, развитие естественных склонностей человека.
С викторианским отношением к естественности как к сплошному неприличию о приближении к природе не могло быть и речи. Воспитание начиналось с того, что воспитуемым предлагали забыть о том, что они дети. Об одном из школьных авторитетов в романе «Домби и сын» сказано: «Доктор благодаря некоторой путанице в мыслях смотрел на молодых джентльменов так, как будто все они были докторами и родились взрослыми».
В соответствии с таким педагогическим убеждением не допускалось, чтобы «детский ум развивался и расцветал, как бутон», но его следовало «раскрывать насильно, как устрицу».
В романах Диккенса плоды «насильственного выращивания» чрезвычайно горьки. В одном из такого рода школьных питомников умирает сын Домби — маленький Поль. Его нежная натура не выдержала встречи с педагогикой. Другие оказываются более стойкими и отделываются легче: школа выпускает их в жизнь с засушенными мозгами.
Метафоры Диккенса рождены той же атмосферой викторианского абсурда, что и великие книги другого его современника — Льюиса Кэрролла об Алисе в Стране чудес (1865) и в Зазеркалье (1872). Писатели идут от одного материала. Эксцентрика Кэрролла предвосхищена в диккенсовских образах. Иногда кажется, что целые эпизоды в его книгах развернуты из той или иной метафоры Диккенса. Скажем, у Диккенса школа сушит мозги. У Кэрролла Мышь собирает вокруг себя целое общество странных существ, насквозь промокших в слезах, которые наплакала Алиса, и утешает их: «Садитесь, все садитесь и слушайте. Вы у меня вмиг высохнете» (перевод Н. Демуровой). Затем читается длинная цитата, взятая из учебника истории (исследователи установили, из какого именно, Кэрроллу ее не нужно было придумывать).
Фантастическая песенка Герцогини, кажется, лишь простодушно зарифмовывает рекомендации диккенсовских воспитателей:
Лупите своего сынка
За то, что он чихает.
Он дразнит вас наверняка,
Нарочно раздражает!
Гав! Гав! Гав!
Перевод Д. Орловской
Если защита слабых и страдающих — проблема социальная, то само преступление все более интересует Диккенса и с другой стороны — нравственной. В современном детективном романе мы обычно проходим сюжетный путь вместе с тем, кто ищет и догоняет. А как ощущает себя тот, кого ищут, тот, кто совершил преступление и теперь пытается скрыться?
Детективный роман
Все более усложняя интригу в поздних романах, Диккенс сосредоточивает свой писательский интерес на личности преступника. Какова психология человека, способного на злодеяние и убийство, что может подвигнуть его на это? Об этом последний роман писателя «Тайна Эдвина Друда». Он был начат осенью 1869 г. Диккенс работал над ним еще за день до своей смерти — 9 июня 1870 г.
Детектив, признанно великий детектив, в котором автор не успел поставить точку! Плана не сохранилось. Зато какое богатое поле для фантазии, для тех, кто хотел бы написать собственное продолжение. Или, быть может, угадать авторское?
Вам хотелось бы знать тайну Эдвина Друда?
Это Диккенса самый последний роман.
Он его не окончил. Осыпалась груда,
и молочной стеной опустился туман.
Вы мне станете петь про нелепость, про дикость
всяких тайн, от которых и пепел остыл.
А ко мне приходил в сновидениях Диккенс
и конец, унесенный с собою, открыл.
Н. Асеев
Соперниками в романе выступают дядя и племянник. Ничего не подозревающий Эдвин Друд постоянно приезжает к своему любящему дядюшке Джасперу, регенту церковного хора в городке Клойстергем близ Лондона. Там же живет и Роза Бадд, с которой Эдвин был помолвлен еще в детстве. Эта помолвка становится все более мучительной для них: будучи близкими людьми, они не любят друг друга. После долгих колебаний Эдвин решает разорвать помолвку.
Увы, он не сообщил об этом дяде. А это спасло бы ему жизнь. Джаспер любит Розу. Внешне благопристойный джентльмен, он скрывает тайные страсти. Нравственное лицемерие стало одним из главных пороков викторианской Англии.
Викторианское общество не прощает не только порока, но и малейшего проступка, если он, конечно, становится известным. Многим есть что скрывать, или, как тогда говорили, у каждого «есть свой скелет в шкафу», т. е. что-то такое, о чем благоразумнее помолчать. Это выражение сделалось нравственной характеристикой викторианства.
Свой «скелет в шкафу» есть и у Джаспера. В одной из первых глав романа мы видим его в грязном притоне для курильщиков опиума. В наркотическом бреду он выбалтывает свои намерения. Из его смутных слов ясно одно: он в действительности ненавидит своего племянника, ревнуя к Розе, и задумал устранить его.
В ночь на Сочельник Эдвин Друд исчезает. Его часы и булавка от галстука будут найдены в реке. Поскольку Джаспер интересовался негашеной известью у входа в один из кладбищенских склепов, полагают, что он хотел засыпать ею тело убитого и тем самым замести следы преступления. Он знал, что известь не сможет уничтожить лишь изделия из драгоценного металла. Вероятно, поэтому Джаспер и выяснил у племянника, какие он носит драгоценные вещи. Он не знал лишь об одной — о кольце Розы Бадд. Не оно ли послужит его разоблачению?
Этого мы не знаем. Ведь нам неизвестно даже, был Эдвин убит или спасся. И та и другая версия возможна. Не вызывает сомнения лишь одно — преступление входило в планы Джаспера.
Роман был оборван смертью писателя, по сути дела, в самом начале расследования. Его параллельно ведут несколько человек. Опекун Розы — лондонский адвокат Грюджиус. Судя по его поведению, он с самого начала знает о злодеянии и уверен, что его совершил Джаспер. В последних главах появляется странный персонаж — Дэчери. Подозревают, что это некто ряженый — не сам ли Эдвин Друд? А может быть, это Елена Невилл, мужественная, красивая женщина, чей брат как раз и оказался главным подозреваемым?
Немало было создано версий продолжения. Начало им положил друг Диккенса, писатель Уилки Коллинз.
Читали ли вы романы Коллинза «Женщина в белом» и «Лунный камень»? Их тоже относят к первым детективам. Подробнее о рождении детективного жанра см. в главе учебника «Зарубежная литература. 8—9 кл.» об Эдгаре По, с. 321—341.
Роман Диккенса дописывали романисты и киносценаристы. Были сняты фильмы (есть и русская телевизионная версия). Сопоставление версий и их оценка были произведены в работе М. А. Чегодаевой. Прочтите ее. Быть может, вам повезет больше других и вы найдете единственно правильное решение этой великой загадки.
Очевидно одно: в «Тайне Эдвина Друда» Диккенс писал свой вариант «преступления и наказания». Его интересовало не только как совершено убийство. Развязка должна была знаменовать моральное поражение Джаспера, продемонстрировав, что человек, переступивший через закон и нравственные заповеди, перестает быть человеком. Диккенс умел быть убедительным, и этот вывод должен был сделать для себя сам читатель.
Нравственная идея неизменно торжествует в романах великого английского писателя. И, по его мнению, она должна торжествовать в жизни. Но это не произойдет само по себе, без усилий и жертв со стороны многих людей.
Круг понятий Роман Диккенса:
журнализм
памфлет
тайна сказка
юмор
метафора
Темы для докладов и сочинений
О чем свидетельствует пристрастие Диккенса к счастливому финалу?
Можно ли считать романы Диккенса романами воспитания?
Что отличает Диккенса от современных авторов детективных романов?
Найдите примеры метафор в романах Диккенса. Может ли метафора превращаться в лейтмотив того или иного персонажа?
Литература
Пирсон X. Диккенс. — (ЖЗЛ).
Сильман Т. Диккенс: очерк творчества. — М., 1958.
Тайна Чарльза Диккенса / сост. Е. Ю. Гениева. — М., 1990 (в книге собран большой материал классических отзывов английских писателей о Диккенсе).
Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. — М., 1975.
Чегодаева М. А. Тайна последнего романа Диккенса (опыт реконструкции) // Мастера классического искусства Запада. — М., 1983. — С. 227—286.
Урок поэзии XX века
ТРАДИЦИЯ И АВАНГАРД: ГАРСИА ЛОРКА
Испанец Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936) — один из крупнейших поэтов прошлого века, замечательной эпохи в истории мировой поэзии. Гарсиа Лорка (именно так правильно произносить фамилию поэта, хотя на других языках его нередко называют просто Лорка) родился в обеспеченной семье потомственных землевладельцев близ Гранады. В его поэзии всегда ощущалась связь со своей землей, в ней «дышали почва и судьба» (по выражению русского современника Лорки — Бориса Пастернака).
Гранада — имя этого города на юге Испании само по себе исполнено поэтических ассоциаций. Крупнейший центр исторической области — Андалусии, где издавна пересекались пути многих культурных традиций: арабской, еврейской, цыганской. Они придавали особый колорит испанской поэзии, традиционно звучавшей в сопровождении гитары.
«Гранада, — писал Лорка, — заставляет меня с пониманием и симпатией относиться ко всем гонимым — к цыганам, неграм, евреям... Гранада — гонимый город, но вместо отпора он превращается в пируэт и весь растворяется в танце, тайно надеясь, что и враждебная сила сделается танцем и утратит свою смертоносность» («Портрет Федерико Гарсиа Лорки»).
Гении редко появляются в одиночку. Их появление предполагает наличие богатой культурной почвы в глубине национального языка, а также подготавливается усилиями ближайших предшественников и современников. Золотым веком испанской поэзии были Возрождение и барокко: Лопе де Вега более известен как драматург, но и в своих драмах он по преимуществу был поэтом. Сервантес прославился как романист, но он писал едва ли не во всех поэтических жанрах. В XVII в. имена Гонгоры и Кеведо принадлежат к вершинам европейской поэзии. В XX в. испанская поэзия возвращает себе утраченную славу.
Ее старшее поколение представлено именами Антонио Мачадо и Хуана Рамона Хименеса, которому в 1956 г. была присвоена Нобелевская премия. При ее вручении было сказано, что в его лице награждены и те, кто не дожил до этого момента, но чьими усилиями была создана современная испанская поэзия, — Мачадо и Гарсиа Лорка. Оба пали жертвами кровопролитной гражданской войны. Мачадо в 1939 г. пересек границу Испании, уходя из страны вместе с последними отрядами разгромленных республиканцев; шестидесятичетырехлетний поэт не вынес тягот этого перехода. Тремя годами ранее Лорка был уведен из дома и на рассвете 19 августа 1936 г. расстрелян фашистами генерала Франко.
Творчество Гарсиа Лорки дает возможность поговорить о двух основных линиях напряжения, характеризующих поэтическое движение XX в.: поэзии и политике; авангарде и традиции.
В XX в. каждый значительный писатель с небывалой прежде остротой был вынужден почувствовать свою зависимость от всемирной политики и ощутить свою ответственность за происходящее. В этом смысле Испания не была исключением. Напротив, она была той страной, где судьбы мировой политики решались в непосредственном трагическом столкновении. На ее полях, в ее городах была проведена генеральная репетиция Второй мировой войны.
Советские историки события 1931—1939 гг. называли испанской революцией. Чаще их называют гражданской войной в Испании. Это также не вполне точно, поскольку борьба за республику сначала против монархии, а потом против фашистской диктатуры вовлекла многие страны. Генерала Франко снабжали вооружением, военными специалистами и непосредственно войсками Гитлер и Муссолини. Им противостоял поднявшийся народ Испании и интернациональные бригады, в которых сражались англичане, французы, американцы, русские, вооружение для которых поступало из сталинской России.
Кто и с кем воевал в Испании? На этот вопрос есть разные ответы. В советских исторических сочинениях писали о том, что фашизму здесь впервые противостоял народ, возглавляемый коммунистической партией. По всей Европе поражение республиканцев было воспринято как поражение демократии в войне с фашизмом. Но приходится признать, что демократические правительства и в особенности богатейшие компании демократического мира оказались не на стороне демократии: вооружение Франко получал из фашистской Германии, но нефть и займы приходили из США... Именно здесь был преподан урок, которого Европа не смогла в полной мере оценить и запомнить, — боязнь революции и повторения советского опыта обернулись тем, что демократический мир не предотвратил прихода ни Франко, ни Гитлера.
В Испании победивший фашизм впервые предстал с такой кровопролитной жестокостью. Коммунистическая партия Испании была вместе с теми, кто проявил мужество, но потерпел поражение. В России надолго испанские события превратили в героический миф, подтверждающий справедливость и величие коммунистической идеи. Однако при этом предпочли расстрелять или отправить в сталинские лагеря большинство из тех, кто сражался в Испании. С одной стороны, они не выполнили задание партии, а с другой — слишком много знали о реальности испанских событий. Мифы не нуждаются в реальных свидетелях. По этой же причине лучший роман, написанный по следам гражданской войны Эрнестом Хемингуэем, — «По ком звонит колокол» (1940) более тридцати лет оставался не переведенным на русский язык. Коммунистическим идеологам слишком незначительной показалась роль, отведенная в романе компартии, слишком мощной — стихия народной жизни, сила и страдание народа Испании.
Гарсиа Лорка не был политиком, не принимал непосредственного участия в политических событиях. Подобно большинству испанских интеллигентов он открыто высказался против диктатуры за республику. Главным рупором своего политического высказывания он сделал свои пьесы, драматический сюжет которых обеспечен прежде всего силой их «социального действия».
Гарсиа Лорка о театре
Театр — это поэзия, которая поднимается со страниц книги и очеловечивается.
Таким искусством для Лорки стал студенческий театр «Ла Баррака», основанный в год начала революционных событий в Испании — в 1931 г. Голос бунта неизменно звучит против насилия над народом и над личностью.
С бунтом связана и его поэзия, но эта связь ощущается в лирике прежде всего не тематически, а через неприятие условности — искусства и жизни. Особенно в первые годы своего творчества Гарсиа Лорка испытал влияние авангарда, прежде всего в его французском варианте — сюрреализме.
Хотя само понятие «авангард» возникает еще в середине XIX столетия, но как явление авангард принадлежит XX в. Обновление искусства происходило всегда и по крайней мере в течение уже нескольких столетий могло принимать форму резкого разрыва с традицией. Степень резкости возрастала по мере того, как характер безусловной ценности приобретали два принципа: новизна и индивидуальность. Но именно под знаменем авангарда в его различных вариантах требование новизны, разрыва с традицией становится программным.
Лучше всего в истории авангарда помнятся названия манифестов и групп, а также скандалы, которые они устраивали. Помнится внешняя часть программы — рекламная. Она рассчитана на запоминание. Однако она же дает повод противникам говорить, будто это единственное, что есть в авангарде, а любого значительного художника изображать временно примкнувшим, вовремя преодолевшим или трагически не успевшим уйти.
Противники авангарда полемизируют с манифестами. Его приверженцы пишут историю на основании манифестов и мемуаров. Мемуары не менее важный жанр, учитывая то значение, которое в авангарде приобретает бытовая сторона художественной жизни. Стихи и проза большинства участников значения не имеют, но зато можно увлеченно описать их костюмы, жесты, эпатажные выходки, составлявшие бытовую часть литературной роли. Стихи важны лишь как ее оправдание, как пропуск в литературную среду.
Эпатаж — намеренно вызывающие поступки или действия, рассчитанные на то, чтобы оскорбить хороший вкус и нарушить приличия, принятые в обществе. В искусстве подобный вызов обычно имеет социальную направленность — бросить вызов или, как гласит призыв, пришедший во все языки с французского: «Эпатируйте буржуа!» (Epatez le bourgeois).
Авангардистские приемы жизни и творчества сказались в целом ряде литературных движений и групп. Они не были вовсе чужды символизму. В литературе первым заметным движением авангарда стал футуризм, захвативший всю Европу — от Италии до России. Так же как и футуризм, на фоне потрясений, вызванных Первой мировой войной, во Франции возникает сюрреализм. Как бы ни варьировались манифесты различных авангардных групп, но общим для них оставалось неприятие общепринятого, вызов скучной, серой действительности, законам здравого смысла и стертого языка... В основе собственной программы всегда было положение о свободе языкового творчества, о возрождении языка, способного к познанию и отражению жизни на ином, высшем, чем традиционное искусство, уровне (отсюда французское «сюрреализм», т. е. над-реализм).
Для кого-то писание манифестов и эпатирование публики остаются главной формой творчества. Для более значительных и одаренных поэтов участие в авангардном движении стало побуждением к творческому обновлению. Творчество ближайших предшественников, как правило, отвергалось. Внимание было обращено к непосредственной жизни языка — в разговорной речи (языке улицы) и в народном творчестве.
Как это может показаться ни парадоксальным, ведь и многие авангардные манифесты писались с оглядкой на миф и фольклор (так ведь было и с русскими футуристами). Живое слово речи возвращалось в поэзии. В поэзию Гарсиа Лорки оно вернулось через сближение с жанрами испанского фольклора — романцеро, в котором слово неотделимо от гитарного аккомпанемента.
В этом смысле поэзия Гарсиа Лорки представляет собой лишь частичную аналогию тому, что известно на русском языке под именем авторской песни — Окуджавы, Галича, Высоцкого. Его стихи не столько рассчитаны на аккомпанемент, сколько в их собственную интонацию и звучание вошла ярость гитарных струн. Музыка не обязательное добавление к слову, она внутри слова, уже поглощена им и транслируется через него. Это качество поэзии Лорки ощутимо в лучших переводах на русский язык, ставших широко известными и любимыми. К ним, безусловно, относится «Баллада морской воды» в переводе А. Гелескула:Море смеется
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы...
— Девушка с бронзовой грудью,
что ты глядишь с тоскою?
— Торгую водой, сеньор мой,
водой морскою.
— Юноша с темной кровью,
что в ней шумит не смолкая?
— Это вода, сеньор мой,
вода морская.
— Мать, отчего твои слезы
льются соленой рекою?
— Плачу водой, сеньор мой,
водой морскою.
— Сердце, скажи мне, сердце, —
откуда горечь такая?
— Слишком горька, сеньор мой,
вода морская...
А море смеется
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы.
Поэт заимствовал из народного творчества не просто его жанр — балладу, но и его способ мышления. Почему баллада поет о морской воде? Потому что море свободно, море прекрасно — в нем радость жизни. Но ведь баллада не о море, а о морской воде. Что присуще ей прежде всего — она солена и горька. Это тоже вкус жизни. Так, значит, баллада повествует о том, как горька жизнь и для девушки, и для юноши, и для матери... Но по закону жанра баллада обрамлена повторяющимся припевом (рефреном): «А море смеется / у края лагуны...»
Баллада обрамлена не слезами, а смехом. Баллада, повествующая о горечи жизни. Море уподобляется жизни, поэт поет о море, но думает о жизни...
Как в теории поэзии мы назовем этот прием? Метафора. Формально это как будто правильно, поскольку метафора предполагает подстановку одного значения вместо другого или непрямой, подразумеваемый смысл. И все-таки здесь особая степень даже не сближения, а взаимопроникновения двух смыслов, накладывающихся друг на друга, отражающихся друг в друге. Тут та степень полноты, которая характерна для народного поэтического сознания, еще не научившегося полностью разделять явления. Нераздельное не поддается сравнению. Здесь две неразрывные или, во всяком случае, параллельные жизни — природы и человека. Великий русский филолог А. Н. Веселовский называл такое явление, отмеченное «отождествлением человеческой жизни с природною», психологическим параллелизмом1.
Стихи Гарсиа Лорки стилистически нередко сближаются с тем родом поэзии, язык которой называют сложным. Зачем поэт загадывает загадки, зачем он вводит сложные подразумеваемые смыслы? Затем, отвечает поэт, что он стремится следовать законам самого языка, понять его жизнь.
Гарсиа Лорка о языковых метафорах
Поэтический образ всегда основан на переносе смысла. Язык строится на базе образов, и велико их богатство у нашего народа. Выступающую часть крыши называют крылом, сладкое блюдо — небесным смальцем или «вздохом монашки»; встречаются и другие не менее удачные и меткие выражения, например купол называют половинкой апельсина — все это превосходные образы, число которых бесконечно. В Андалузии образность народного языка достигает поразительной точности и изысканности... Глубоководный поток, медленно текущий по равнине, называют водяным волом, выражая этим его величину, неодолимость и силу. А однажды я услышал от гранадского крестьянина, что «ивняк любит расти на языке реки»2.
Не только язык, но манеру, можно сказать, дух языка. Время требовало сказать о его жестокости и потребовать мужества. Лорка придает своему голосу безошибочно узнаваемую глубину и проникновенность. Он сам подчеркнул это его качество, назвав сборник стихов «Стихи о канте хондо» (1921).
Канте хондо (исп.) — глубинное пение. Общее обозначение старинной традиции андалузского песенного фольклора под аккомпанемент гитары. Старейшие жанры этой традиции, в которых также слагал свои стихи Лорка, — цыганская сигирийя и солея (одиночество).
Глубину песенное искусство Гарсиа Лорки приобретает по мере того, как в стихи все более входят воспоминания исторического прошлого — на уровне ассоциативной памяти или романсовых сюжетов — и впечатления настоящего. Именно впечатления, так как романс, даже напоминающий о каких-то конкретных событиях, обобщает их на изобразительном уровне до картины почти мистически всеобщей. Именно таким образом вселенского зла предстает строй всадников в «Романсе об испанской жандармерии» (сб. «Цыганское романсеро», 1925—1927):
Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
въезжают, стянув ремнями
сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую мглу молчанья.
От них никуда не деться —
скачут, тая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов.
Перевод А. Гелескула
В поэзии Лорки неожиданные сближения понятий, метафорическую насыщенность образа всегда можно толковать двояко, видя в ней то ли наследие фольклорного сгущения смысла, в котором человеческое и природное еще нерасторжимо слиты, то ли новизну современного искусства, мечтающего о том, чтобы вернуть себе эту полноту и цельность впечатления в слове.
Поэзия Гарсиа Лорки заставляет вспомнить слова другого поэта — Александра Блока, которыми он начал свою статью «Поэзия заговоров и заклинаний» (1908): «То, что было живой необходимостью для первобытного человека, современные люди должны воссоздать окольными путями образом. Непостижимо для нас древняя душа ощущает как единое и цельное все то, что мы сознаем как различное и враждебное друг другу».
Как эти слова могут быть применены к образному строю стихов Лорки?
«Песчаные смерчи страха», «клейкая мгла молчанья»... Переживание ищет и находит предметную, т. е. видимую, слышимую, осязаемую форму. Страх подхватывает и обжигает, как песчаный смерч. Немота молчания, когда человек лишен слова, уподобляется мгле, т. е. переводится на язык другого органа чувств, точнее, его отсутствия: немота — отсутствие речи — подобна мгле — отсутствию зрения. Это возможно оттого, что мир, воспринимаемый разными органами чувств, схватывается одномоментно. Либо он говорит всем органам чувств: он виден, слышен, осязаем во всем своем богатстве и разнообразии — это нормальное состояние мира и его восприятия. Либо он поражает человека глухотой, слепотой, немотой — это знак беды, знак нарушения гармонии.
Пожаром и кровью заполыхал вольный город, оставленный жандармами:
О мой цыганский город!
Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья,
а ты — пожаром охвачен.
Забыть ли тебя, мой город!
В глазах у меня отныне
пусть ищут твой дальний отсвет.
Игру луны и пустыни.
Гарсиа Лорка был одним из тех великих поэтов прошлого века, кому удалось обновить слово и само видение мира не за счет авангардистского обрыва связей, а за счет возвращения современному человеку той яркости, полноты впечатлений, которые свойственны народному песенному искусству. Это определило и характер его высказывания о современности. Лорка нечасто (за пределами своей драматургии) вводил в свои стихи злободневность, но они были поистине современны и злободневны за счет того, как в них воспринимались действия человека, оставлял ли человек мир у себя за спиной, каким нашел его, т. е. наполненным звуками и играющим красками, или же уходил из него «черным туннелем молчанья».
Круг понятий Современная поэзия
поэзия и политика
«психологический параллелизм»
речевая метафора авангард и традиция
«окольные пути образов»
эпатаж
Вопросы и задания
Обязательно ли политическая позиция поэта выражает себя в выборе актуальной, злободневной темы?
Можно ли говорить об искусстве авангарда до XX в.?
Каким образом обновление искусства может быть сопряжено с возвращением к традиции вплоть до изначальных основ народного искусства?
К чему ведут «окольные пути образов» в поэзии Гарсиа Лорки? Приведите примеры сопряжения в одном словесном образе впечатлений, соединяющих различные органы чувств (зрение, слух, осязание).
Литература
Гарсиа Лорка Ф. Об искусстве. — М., 1971.
Осповат Л. Гарсиа Лорка. — (ЖЗЛ).
1 См.: Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля / Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика / сост., вступ. ст., коммент. И. О. Шайтанова. — М., 2006. — С. 417.
2 Гарсиа Лорка Ф. Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры // Гарсиа Лорка Ф. Об искусстве. — М., 1971. — С. 92.
Похожие файлы
object(ArrayObject)#862 (1) {
["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
["title"] => string(104) "Прикладной курс по английскому языку "Хочу знать больше" "
["seo_title"] => string(59) "prikladnoi-kurs-po-anghliiskomu-iazyku-khochu-znat-bol-shie"
["file_id"] => string(6) "105066"
["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
["date"] => string(10) "1402813771"
}
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
["title"] => string(88) "Программа прикладного курса "Цитология", 10 класс"
["seo_title"] => string(51) "proghramma_prikladnogho_kursa_tsitologhiia_10_klass"
["file_id"] => string(6) "417222"
["category_seo"] => string(9) "biologiya"
["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
["date"] => string(10) "1495314014"
}
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
["title"] => string(71) "прикладной курс "Геоэкономика" 10 класс "
["seo_title"] => string(38) "prikladnoi-kurs-gieoekonomika-10-klass"
["file_id"] => string(6) "234084"
["category_seo"] => string(10) "geografiya"
["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
["date"] => string(10) "1443347038"
}
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
["title"] => string(44) "10 класс прикладной курс "
["seo_title"] => string(24) "10-klass-prikladnoi-kurs"
["file_id"] => string(6) "234085"
["category_seo"] => string(10) "geografiya"
["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
["date"] => string(10) "1443347307"
}
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
["title"] => string(146) "Прикладной курс по математике "Способы решения уравнений и неравенств" 10 класс"
["seo_title"] => string(86) "prikladnoi-kurs-po-matiematikie-sposoby-rieshieniia-uravnienii-i-nieravienstv-10-klass"
["file_id"] => string(6) "282100"
["category_seo"] => string(10) "matematika"
["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
["date"] => string(10) "1453645700"
}
}
Подтверждение авторства
Пожалуйста, введите ваш Email.
Если вы хотите увидеть все свои работы, то вам необходимо войти или зарегистрироваться
Полезное для учителя
* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт