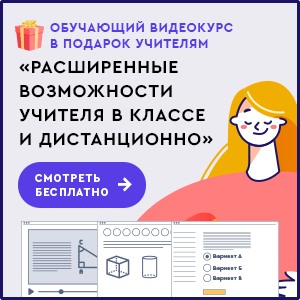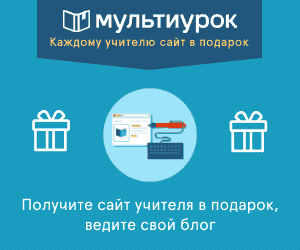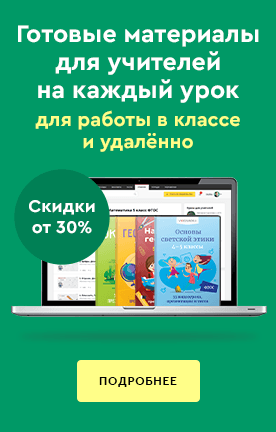Создайте Ваш сайт учителя Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей
“Поэзии непостижимой лики...” Материалы для анализа лирики в школе
“Поэзии непостижимой лики.”
Материалы для анализа лирики в школе
Возможно, тайна поэзии в том и заключается, что порой, читая стихотворение и ещё не отдавая себе до конца отчёта о глубине его содержания, ты ощущаешь очищающую, возвышенную радость от одного только его звучания. И если вдруг тебя просят: “Что в нём?” — ты не сразу и уж, конечно, не всякому сможешь объяснить, что именно трогает и заколдовывает тебя, отчего ты вдруг оказываешься в пленительной власти ритма и слов.
Но именно потому, что этот процесс в каждом из нас происходит по-своему, а в ком-то не происходит вовсе, мы и учимся на уроках литературы вчитываться и вдумываться, вслушиваться и вглядываться в суть и в ткань поэтического произведения, размышляя о времени, когда оно создавалось, и о личности его автора.
* * *
“Сегодня мы молимся о душе покинувшего нас фрателло Brodsky, который любил Бога, писал много стихотворений и столько страдал.” — так прочувственно говорил пад-ре, когда на кладбище Сан-Микеле в Венеции хоронили Иосифа Бродского. А сам Брод-ский сказал о своей жизни и о своих страданиях так:
Теперь, зная многое о моей
жизни — о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошёл, о морях, в которых
я захлёбывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, —
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
“Судьба к нему оказалась щедрой.”
Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
И вот перед нами другое стихотворение этого удивительного поэта — “Пилигри-мы”. Уже в самом этом слове — привкус извечной и неизбывной печали, что в значитель-ной степени обусловлено его семантикой (“странник”, “богомолец”, “паломник”). С доро-гой и печалью ассоциируется оно почти в любом контексте. (Сравним у Н.Рубцова стихо-творение “Старая дорога”: “Всё облака над ней, всё облака. // В пыли веков мгновенны и незримы, // Идут по ней, как прежде, пилигримы, // И машет им прощальная рука. Здесь возникает даже такая же цепочка образов, что и у Бродского: дорога — облака — стран-ники (пилигримы) — вечность.)
Две категории царствуют в стихотворении Бродского — пространство и время, при-чём “время” — именно в значении “вечность”. “Идут по земле пилигримы”. И кажется, что автор — один из них, ибо только очевидец способен так детально, убедительно, зримо и прочувствованно нарисовать происходящее.
Итак, перед нами затерянная в пространстве горстка странников на фоне необозри-мого полотна с беспрестанно меняющимися декорациями: “ристалища” и “храмы” (раз-влечения и молитвы), “базары” и “бары” (торговля и разгул), “шикарные кладбища” (веч-ность за чертой мирской суеты) — всё это отражает полноту и многообразие жизни. Но не она, не стремление постичь её сущность — цель странствий пилигримов. Нечто иное — более высокое и вечное — не даёт им остановиться.
“Вынесение вверх” — именно это первоначальное значение слова “анафора” точнее всего передаёт в первых восьми строках (“мимо. мимо.”) нарастание движения, расширение перспективы в пространстве: вперёд и вверх, когда всё остаётся позади: “мир” и человече-ское горе, святая Мекка и могущественный Рим. Но как мучительно труден этот путь под “синим” солнцем, которое не светит, не согревает, не ласкает, а безжалостно “опаляет” “увечных” и “горбатых”, “голодных” и “полуодетых” пилигримов.
В стихотворении переплетаются и сталкиваются несовместимые порой детали и образы, суждения и выводы. Контрастность их (“шикарные кладбища”, “мир” и “горе”, “закаты” и “рассветы”, “ослепительность” и “лживость” этого “постижимого”, но при всём том “бес-конечного” мира.) как бы вновь подчёркивает спорность истин, разнообразие и противо-речивость жизни, непредсказуемость бытия.
Дважды говорит автор о “закатах” и “рассветах”. Но если в последней строфе они — сим-вол жизни непреходящей (“И быть над землёй закатам.”), то закат в глазах пилигримов — это уже печаль прощания, печаль постижения неведомой прежде истины. А рассвет в их сердцах — это вера, это надежда, которую поддерживают и “песни пустынь”, и “вспышки зарниц”, и “хриплые”, пророческие крики птиц. О чём они кричат? О том, “что мир останется прежним”. Через все его характеристики-эпитеты (“снежный”, “нежный”, “лживый”) от строки к строке нарастает мелодия и движется к кульминации, жизнеутвер-ждающий пафос которой создают главные определения:
Мир останется вечным
Может быть, постижимым
Но всё-таки — бесконечным
И тогда остаются нам, как итог и удел, как цель и смысл, как символ человеческого существования (бытия) — “иллюзия” и “дорога”.
Ещё в двадцать четыре года Бродский писал: “Моя самая главная цель — звучание на какой-то ноте, глуховатой, отрешённой. Знаю. что ни звонкой, ни убедительной она не будет. Вот ради этой “ноты” и вся жизнь”.
И, может быть, именно присутствие этой “ноты” делает стихотворение “Пилигри-мы” таким высоким, мудрым и пронзительно печальным.
* * *
“Старшие” символисты, в число которых, наряду с В.Брюсовым, Ф.Сологубом, Д.Мережковским, З.Гиппиус, входил К.Бальмонт, пришли в литературу в 1890-е годы — в период глубокого кризиса поэзии. Они стремились возродить культуру стиха, проповедо-вали культ красоты и свободу самовыражения. Именно им русская поэзия обязана возро-ждением вкуса к яркой, выразительной форме стиха.
Поэтическая практика русских символистов утвердила канон сонета почти класси-ческой чистоты. Пример тому — сонет К.Бальмонта “Август”, вошедший в одну из его ранних книг “Под северным небом”.
Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолётность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.
В нём кажется ошибкой полдень знойный, —
С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.
В последний раз пред остриём серпа
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.
Отраден вид тяжёлого снопа,
А в небе — журавлей летит толпа
И криком шлёт “прости” в места родные.
Пятистопный ямб, которым написан сонет, придаёт ему медлительность и плавность:
как я/сен ав/густ, неж/ный и спо/кой/ный.
Инверсия, сообщая стиху особую выразительность, способствует тому же: “август, нежный и спокойный”; “порядок стройный”; “полдень знойный”; “колосья наливные”; “места родные”.
Общая тональность сонета определяется двумя основными мотивами: это мотивы прощания и тихой умиротворённости, проникнутой лёгкой и светлой печалью.
Прощание начинается уже с названия: это и август — прощальный, последний месяц уходящего лета, и “мимолётность” красоты, и последний раз красующиеся колосья, и на-конец, журавлиное “прости”.
“Полдень знойный” не случайно “кажется ошибкой”: в определении “знойный” каче-ство (горячий, жаркий) доведено почти до кульминации, а это отнюдь не гармонирует с общим настроением, пронизывающим августовский пейзаж, в котором всё: и краски, и звуки, и эмоции — приглушённо и умеренно: “нежный”, “спокойный”, “грустные мечты”, “прохлада”, “тихая простота” и отдых.
Олицетворённый образ момента природы, пограничного между жарким, щедрым ле-том и подступающей грустью осени, прослеживается от начала до конца стихотворения: это ясный август, мудро осознавший “мимолётность красоты” и покорившийся неизбеж-ности ухода, это “наливные колосья”, красующиеся “последний раз пред остриём серпа”, это “толпа журавлей”, последний раз окликающих землю с небес.
К созданию этих образов приводит автора чувство, возникшее под впечатлением от тронувших его явлений жизни. Он стремится передать своё настроение и настроение природы, прикоснуться к красоте и раскрыть её перед читателями.
Этот сонет нельзя признать чисто символическим: непосредственность восприятия автором природы, его способность глубоко и полно ощущать мгновения придают стихам импрессионистический характер.
Именно желание и умение просто и искренне радоваться жизни, ярко, небанально, но изысканно и красиво рассказать об увиденном позволили В.Брюсову назвать “звонко-певучим” стих символиста К.Бальмонта, чья поэзия привлекает силой чувств, изысканностью, лёгкостью и музыкальностью.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.
Просмотр содержимого документа
«“Поэзии непостижимой лики...” Материалы для анализа лирики в школе »
Полезное для учителя
Распродажа видеоуроков!
2320 руб.
3320 руб.
2000 руб.
2860 руб.
2320 руб.
3310 руб.
2320 руб.
3320 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО
* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт
Удобный поиск материалов для учителей
Проверка свидетельства