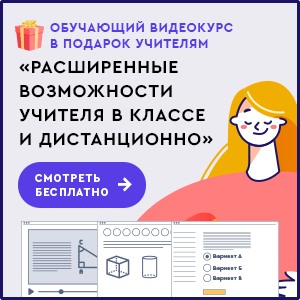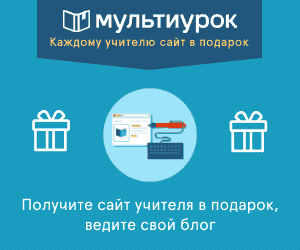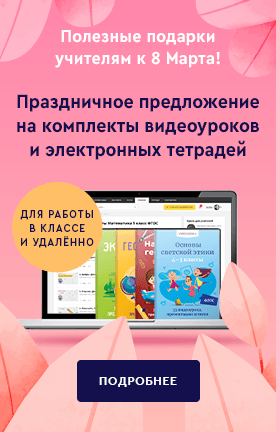Александр Яковлевич Яшин
Рассказы
Подруженька
Рассказ. 1965
Поздней осенью, собирая грибы в перелеске за железной дорогой, Катерина Федосеевна встретила серенькую облезлую кошку, ничем не примечательную, беспородную, и пожалела ее.
— Откуда ты взялась, милая? Худющая какая? Кис, кис!
Любую бездомную дворняжку назови Жучкой — она завиляет хвостом и пойдет тебе навстречу, если не совсем запугана и не одичала. А как назвать бродячую кошку? Кис-кис — это почти то же, что Жучка.
— Кис, кис, кис! — настойчиво и ласково позвала кошку Катерина Федосеевна. — Вишь, куда забралась, потаскушка, — в лес!
Кошка недоверчиво прянула в сторону, но, почуяв доброту в голосе старой женщины, остановилась, жалобно мяукнула и, подняв хвост с прилипшими к нему репейниками, пошла на зов.
— Голодная ты, что ли? — с сочувствием и упреком рассматривала ее Катерина Федосеевна. — В таком лесу да голодать! Неужто и промыслить ничего не смогла? Вишь, кожа да кости!
У кошки почему-то не было усов, глаза ее гноились, шерсть была короткая и грязная, неухоженная, и уши в парше.
— Сама себя прилизать не удосужилась. А может, ты больная, и тебя, больную-то, занесли в лес да и бросили на погибель? Есть же люди!
Катерина Федосеевна поставила корзинку с грибами на землю, прислонила к дереву палку, с помощью которой разбирала траву и приподымала нижние ветки елочек, и взяла кошку на руки. Поглаживая ее, она осторожно вынула из хвоста колючие ежики репейника, после чего кошачий хвост стал совсем голым, как прутик. Заметив, что кошка безусая, она подивилась: "Наверно, кто-нибудь вырвал либо спалил". А кошка припала всем телом к ее теплой байковой кофте и благодарно замурлыкала.
Катерина Федосеевна растрогалась:
— Одинокая, видно. Ну, чего ж, пойдем тогда. И будет теперь у тебя свой дом, станем жить вместе. Какая-никакая — все скотинка, а то у меня давно никого нет.
От волнения она даже палку в лесу забыла.
По дороге к поселку, около железнодорожного переезда, встретилась Катерине Федосеевне соседка-солдатка — суматошная бабенка Валя — и давай сразу огороды городить:
— Что это за чучело на руках у тебя, Федосеевна?
— Да вот кошечку в лесу нашла, пожалела, — ответила Катерина Федосеевна и показала из-под кофты безусую кошачью мордочку.
— С ума ты сошла, Федосеевна, драную кошку на грудях в дом несешь! Да еще из лесу. А вдруг это смерть твоя?
Катерина Федосеевна не испугалась оговора, — от этой пустомели доброго слова не дождешься! — только поплотнее прикрыла свою находку байковой кофтой, будто оберегая ее от дурного глаза, да огрызнулась нешибко:
— Типун тебе на язык, несуразное говоришь. Иди лучше, куда шла!
Кошка всю дорогу тихо сидела у самого ее сердца и мурлыкала так тепло и старательно, что зряшные слова соседки больше не вспоминались.
Дойдя до дому, Катерина Федосеевна оставила в сенях корзинку с грибами, не стала их тотчас перебирать, как делала раньше, а занялась кошкой.
— Перво-наперво я тебя покормлю, — сказала она ей. — Только чем? Сама-то я теперь больше грибками балуюсь, а тебе молочка бы надо. Ну, да не все сразу. Вот погоди-ка, есть у меня в чулане кое-чего. Пойду пошукаю. — И Катерина Федосеевна направилась в сени, в чулан.
Спущенная с рук у порога кошка пугливо озиралась, щуря больные глаза, медленно переступала с ноги на ногу, будто шла по воде, не по полу.
В избе этой ее ничто не удивило: изба как изба. Слева — окна и прямо окна, в углу — стол, на столе что-то вроде куска хлеба, на окнах жужжат мухи. Есть печь, чтобы спать в тепле и покое, есть полати. За печкой отгорожена занавеской кухня, там должен быть и вход в подполье, а под опечком, где дрова, наверно, стоит и миска с молоком. Осмотревшись и ничему не удивившись, кошка затрусила за печку, на кухню, но там, под шестком, ничего, кроме дров, не оказалось, и она, вынырнув из-под занавески, привычно вспрыгнула на лавку, затем на стол.
Когда Катерина Федосеевна вернулась в избу, кошка соскочила со стола и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не выпустила.
— Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурила ее Катерина Федосеевна. — Ну ничего, сыта будешь и — воровать не потянет. Воруют, когда жрать нечего. Вот я тебе кусочек сальца нашла. Кис, кис! Как тебя звать-то, не знаю?
Кошка, почуяв сало, пронзительно замяукала, но и от хлеба не отходила. В подслеповатых глазах ее появился зеленый огонек.
— То-то! На, кушай! Сальца-то, правда, кот наплакал, а все не хлеб черствый. Съешь и будешь знать, чье сало съела. А звать я тебя буду Подружкой. — Катерина Федосеевна наклонилась и сунула кошке под лавку, прямо в зубы, розоватый соленый кусочек. Потом вдруг засомневалась, присмотрелась. — Уж не Дружок ли ты? Нет, Подружка, — шариков вроде бы не видно…
Катерина Федосеевна рада была поразговаривать с кошкой, ей уже казалось, что та отвечает на каждое ее слово.
Сама она тоже захотела поесть, принесла с кухни из суденки грибки соленые и вареные, отрезала ломоть хлеба от черной краюшки и уселась за стол. Ела и все заглядывала под лавку да говорила, говорила без умолку:
— Вот мы с тобой и не одинокие теперь. Подруженька ты моя…
Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство и кормить семью, труднее переносить одиночество, чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось. Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы покормить себя, а для женщины это не труд.
Из семерых детей выжили и выросли у Катерины Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее; выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то Заполярье: там будто больше платят, а молодые задумали обзавестись добром, пока здоровье есть.
Муж Катерины Федосеевны, когда они остались вдвоем, не захотел помирать в родной деревне — спятил с ума под старость — и тоже поехал искать хорошей жизни. Помотался по белу свету года два, потом устроился недалеко от дома на железной дороге, стал жалованье получать. Приглянулось — и ее к себе вытребовал: я, говорит, служащий теперь!
Продали они корову, зарезали свинью, овец, половину мяса дочке посылками в Заполярье переправили, избу свою деревенскую на станцию перевезли. Надорвался старик — умер, в три недели свернуло, будто и живым не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел — не успела она приехать, а когда умер — чего ж, говорит, и приезжать.
Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что покинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколихе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни березка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять.
Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все такое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной деревни, будто живой воды лишилась, от святых даров отреклась.
Схоронив мужа, Катерина Федосеевна и сама поступила на казенную службу, стала полы на станции мыть да подметать. Работает день и ночь, даже спать домой редко ходит, не любо ей в пустой избе ночевать. И по привычке каждый месяц какую-нибудь посылочку для дочки справляет.
Работает и все ждет, что пошлет ей дочка внука на воспитание. Не послала дочка ни внука, ни внучку, весной сама с муженьком на побывку прикатила. Не хочу, говорит, иметь детей, без них спокойнее, а тебе, говорит, пенсию выхлопочем.
"Детей не хочешь иметь, а я-то тебя имела?!" — с обидой подумала Катерина Федосеевна, но говорить ничего не стала: может, теперь так и надо, времена другие…
Пенсию они выхлопотали, это верно, не обманули. С тех пор и живет Катерина Федосееша одна-одинешенька, год уже скоро, живет — дни коротает. Изба есть, а ни кола ни двора. Купила бы козу, да капиталов нехватка. Некого покормить, не за кем поухаживать. Завела бы квартирантов, да где их взять станция невелика, в жилье никто не терпит нужды. Не с кем покалякать, не с кем душу отвести. Кабы в деревне — сходила бы к колодцу, а здесь и колодцев нет. Да и люди кругом грамотные, стрелочница — и та четыре класса кончила, книги читает.
— Заживем мы сейчас душа в душу с тобой, подруженька ты моя сердешная. Уж и выхожу я тебя, уж и выкормлю! Будешь бога благодарить, что мне на глаза попалась, — причитала Катерина Федосеевна, убирая со стола. — А дочка моя, вишь, она какая, ей спокой нужен.
Кошка объелась, и ее стошнило. Встревоженная Катерина Федосеевна, не зная, чем ей помочь, заметалась по избе, переворошила в шкапчике все лекарства, оставшиеся от мужа, — он тоже скудался желудком, а дать что-либо не решилась: подходяще ли для животины то, что человеку на пользу шло? Вдруг ей хуже станет, видно, еще молодая, желудочек нежный. Кто их знает, что за фталазол такой, что за пурген? Спросить бы соседку-солдатку, да как ее спросишь, еще на смех подымет, зряшная: чучело, дескать, драное лекарством кормить? С ума сошла Федосеевна!
Ослабевшая кошечка подергивалась и тоскливо мяукала, тоненький хвостик ее, будто прутик, лежал поперек половиц.
— Что же это я наделала, глупая? — упрекала себя Катерина Федосеевна. — Угостила соленым салом с голодухи! От такого угощенья ноги протянуть можно.
И все-таки пошла за советом к солдатке, больше некуда было.
— Что стряслось, Федосеевна? — спросила та, заметив по лицу старухи, что заявилась она неспроста. — Нечастая гостья, хоть и рядом живем.
— Прости, Валюша, что обеспокоила тебя, — сказала Катерина Федосеевна. — А только не найдется ли у тебя молочка немножко?
— С ума ты сошла, Федосеевна! Корова у меня, что ли? — удивилась Валя.
— Знаю, что не корова, только, думаю, с чайную чашку не найдется ли?
— Неужто для кошки для этой драной?
— Для кошечки, Валя. Взяла я ее к себе на воспитание. — И в угоду солдатке Катерина Федосеевна даже подшутила над собой: — Слыхала, говорят: "Не было у бабы хлопот, так купила поросенка".
— Ладно кабы порося, а то кошку! — все еще не хотела понять ее Валя.
— А без кошки, Валя, что за дом? Кошки нет, стало быть, мышей нет, а мышей нет, стало быть, достатку бог не дал, царь не умеет народом править.
— Ну вот о чем, старая, вспомнила, о царе! — удивилась Валя. — Где я тебе молока найду?
— Прости, коли так! — сказала Катерина Федосеевна и повернулась к порогу. Но Валя остановила ее.
— Сядь, посиди маленько. Я Кольку пошлю к Поликарповне. Колька! — крикнула она.
Валя жила в коммунальной двухкомнатной квартире с сыном и дочерью. Сынок родился еще при отце и сейчас заканчивал десятилетку. Катерина Федосеевна считала, что сын у Вали законный и ничего против него не имела. А вот дочка, по слухам, появилась на свет, когда батько уже с немцами воевал, и один бог знает, чья она. Из-за этого Катерина Федосеевна и относилась к солдатке Вале с ревнивой подозрительностью и считала ее про себя несамостоятельной, непутевой. Что угодно могла она простить женщине-солдатке, только не беспутную жизнь.
Колька поворчал немного, что его от книг отрывают, но сходил, куда послала мать, и принес полную чашку молока.
Катерина Федосеевна даже не поблагодарила как следует, заторопилась домой.
— Подруженька! — позвала она кошку, еле открыв дверь в избу. — Вот я тебе раздобыла еды, это не солонина, не грибки какие-нибудь. Да где ты, жива ли?
Кошка спала на ее постели, прямо на подушке, свернувшись улиткой, маленькая, серенькая, голова в передних лапах, хвостик прутиком промеж ушей. На мгновение она приоткрыла глаза, взглянула лениво, без всякого интереса на свою хозяйку и тотчас заснула снова и словно бы даже захрапела.
Катерина Федосеевна сразу притихла и от порога к суденке с кружкой молока прошла на цыпочках. Сон всегда дороже еды, в это она верила давно. Для человека — дорог, значит, и для любого живого существа тоже.
Было уже поздно, и Катерина Федосеевна сама стала укладываться. Чтобы не потревожить Подружку, она решила эту ночь переспать на печи.
Хлопот с кошкой было, конечно, немало, но ведь Катерина Федосеевна сама хотела, чтобы у нее были хлопоты. Она даже придумывала их себе. Чем больше было хлопот, тем легче переносила она свое одиночество.
Через Валю она познакомилась с Поликарповной и стала брать у нее каждодневно по бутылке козьего молока. Все для кошки. Сама она козье молоко в рот не брала, брезговала.
По утрам Подружка просыпалась рано, и Катерина Федосеевна только радовалась этому, потому что тоже не любила спать подолгу. Наполнив молоком чайное блюдце, она добавляла в него кусочки хлеба. Крошево это кошка съедала неторопливо, с удовольствием. Сперва лакала молоко, затем подбирала хлеб. А Катерина Федосеевна стояла либо сидела рядышком и смотрела на нее во все глаза. Иногда она спрашивала:
— Что, глянется? По душе тебе крошенинка моя?
Подружка, занятая своим наиважнейшим в жизни делом, даже не поднимала головы от блюдца, будто не слышала, о чем спрашивает хозяйка. Она ласкалась, мурлыкала, терлась о ее ноги, пока хотела есть, а наевшись, отходила в сторону, отфыркивалась, отряхивалась, особо отряхивала лапки и уже не обращала никакого внимания на свою кормилицу, словно ее и не существовало.
Катерина Федосеевна налюбоваться не могла на свою Подружку.
Однажды кошка вылакала все молоко, а хлеб не съела. Катерина Федосеевна походила по магазинам и нашла для нее полкило белого хлеба, — в поселке он появлялся не часто. От белого хлеба кошка не отказалась. Но скоро и он ей надоел. Тогда Катерина Федосеевна начала покупать мясо.
Глаза у Подружки прояснели, перестали гноиться. На морде появились усы. Она раздобрела, обросла длинной шелковистой шерстью, словно нарядилась в новую юбку, и все чаще умывалась, все дольше спала, а когда после еды охорашивалась, Катерина Федосеевна, глядя на нее, любовно ворчала:
— Затрясла своими воланами. Вишь, модница какая!
Но и насытившись и раздобрев, кошка воровать не перестала: то на стол вскочит, то в суденку заберется, должно быть, это у нее в привычку вошло. Тащит мясо, припасенное для нее же, и даже хлеб ест, если он краденый.
Первый месяц Катерина Федосеевна боялась выпускать кошку на улицу, чтобы та не заблудилась где-нибудь. У порога около веника для нее стоял ящик с песком — в избе пахло тяжело и густо. А когда Катерина Федосеевна решилась наконец выпустить кошку на прогулку, та исчезла сразу на двое суток.
"Может, она подалась от меня к старым хозяевам? — думала Катерина Федосеевна. — Может, я не угодила ей чем-нибудь?"
Две ночи она почти не спала: Подружка могла появиться в любой час, не откроешь дверь вовремя — обидится, совсем уйдет. Но ведь не в милицию же заявлять о пропавшей кошке.
Под утро вторых суток сон все-таки сморил Катерину Федосеевну. Приснилось ей, будто покойный муж топит Подружкиных котят за гумном в глубокой яме, из которой деревенские бабы глину добывали, чтобы печи подмазывать. Вытряхнул он котят из мешка, а их было четверо, и все серенькие, как воробышки, а яма до краев полна водой, плавают они, тощие, маленькие, мяучат, а муж в них палками кидает, чтобы скорей на дно шли. Кошка-мать бегает вокруг ямы, ревет не своим голосом, то в одну сторону кинется, то в другую, а муж, покойник, и в нее палками кидает. Стала бегать вокруг ямы и Катерина Федосеевна, хочется ей крикнуть мужу: "Что ты делаешь, бессовестный!" — а голоса нет, и замяукала она по-кошачьи. Тогда муж, покойник, и в нее — палку за палкой…
Проснулась Катерина Федосеевна, будто избитая, тело ноет, а кошка Подружка на постели под боком лежит, руки ей лижет, даже страшно стало. И припомнились ей слова соседки Вали: "А вдруг это смерть твоя?"
— Откуда ты взялась, окаянная, спаси Христос! — с трудом выговорила Катерина Федосеевна, отодвигаясь от кошки, и всхлипнула не то от радости, что она вернулась, не то от страха.
Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность. Прибирая постель, Катерина Федосеевна упрекала свою Подружку:
— Неужто к старым хозяевам бегала от меня, изменщица? Разве тебе у меня худо, чего тебе еще надо? А может, по лесу опять шаталась? "Сколь ни корми, а все в лес смотрит" — уж не про кошку ли это сказано? Может, про кошку? Как же ты в избу-то попала, голубушка? Дверь заперта, окно тоже… Не через трубу ли? Через трубу ведьмы лазят.
Но, присмотревшись, Катерина Федосеевна заметила открытую форточку и следы грязных лап на стекле изнутри и снаружи окна.
— Вот ты какая у меня лазунья! — сказала она. — Догадливая! Ну погоди, не будешь убегать, все равно приворожу!
Растопив печь, Катерина Федосеевна выскребла из кошелька остатки пенсии, сходила на базар и приготовила для кошки мясные котлетки, какие мужу научилась готовить, когда он болел, — сочные, поджаристые, с дымком.
— Служи, лазунья! — скомандовала она ей, как собаке, держа котлету над ее головой.
Почуяв в руке хозяйки жареное мясо, кошка взвилась, подпрыгнула и в кровь разодрала ей пальцы, но котлетку все-таки схватила.
Катерина Федосеевна смазала царапины на пальцах жиром и накормила Подружку досыта. Наевшись, та забралась на подоконник и стала ловить мух на стекле. Потом заснула на весь день, опять же на хозяйской подушке.
Случилось однажды, угостила Катерина Федосеевна кошку мороженой треской, а в другой раз купила на базаре у ребятишек речных окуньков. Подружке особенно по душе пришлась свежая рыба, должно быть, она ее пробовала где-то раньше. У окунька Подружка отгрызла сначала голову, но есть стала его не с головы, а со спины, и только напоследок съела и голову. Жевала она неторопливо, похрустывая и щурясь от удовольствия, почти засыпая к концу еды. На полу оставались рыбьи внутренности, да хвост, да красные перья.
— Не для меня ли оставляешь? — пошутила Катерина Федосеевна, подбирая с пола кошачьи объедки.
После свежих окуньков Подружка перестала есть мороженую рыбу. Да и свежая рыба устраивала ее теперь не всякая. Хорошо шли гладкий пескарь, сладкий голый налименок, жирный сазанчик. А плоскую костлявую густеру с жесткой, как панцирь, чешуей она совсем не признавала за еду. Испробовав свежие, сочащиеся жиром котлетки, Подружка стала отказываться и от мороженого мяса.
Пришлось Катерине Федосеевне изворачиваться, доставать каждый день то парное мясо, то свежую рыбу. А когда в доме не было ни того, ни другого, кошка ходила за нею по пятам, заглядывала в глаза и мяукала ожесточенно и требовательно.
Катерина Федосеевна безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться снова в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов.
Посылочки для дочери она тоже справляла теперь не каждый месяц: все равно та отзывалась письмом не на всякую посылку.
Многое прощала Катерина Федосеевна своей Подружке, не могла смириться лишь с ее воровством да еще с ее побегами. Стоило хозяйке зазеваться, не захлопнуть за собой дверь, как Подружка серой тенью шмыгала промеж ног и не возвращалась домой по двое, по трое суток. Разыскивать ее было бесполезно. Но Катерина Федосеевна всякий раз искала ее.
С особенным удовольствием кошка убегала из дому через форточку. Если случайно открыты были в избе и дверь и форточка, кошка исчезала через форточку. Тем же путем любила она и возвращаться в дом. Оконные стекла с обеих сторон всегда были в грязи, занавеска то и дело оказывалась продранной и валялась на полу.
А в палисаднике под окнами перестали водиться птички. Раньше Катерина Федосеевна прикармливала синичек, снегирей, сейчас птички боялись ее избы. Кошка выслеживала их часами в кустах смородины и калины и, поймав, приносила в зубах домой еще живыми, злобно урча и тараща глаза. Под лавкой, под столом то и дело появлялись перышки — желтые, красноватые, пестрые.
Правда, мышей в доме тоже не стало. Ну и ловила бы себе мышей, это ей по закону положено, а птичек зачем трогать?
Как-то в форточку залетела синичка. Кошка прямо взбесилась, опрокинула горшок с примулой, смахнула со стола две чайные чашки, а когда Катерина Федосеевна схватила ее за загривок, она извернулась и укусила ее. Синичка ударилась о стекло, упала на пол, и кошка все-таки ее съела.
С неутолимой алчностью Подружка кидалась на всякую живность. Она и рыбу охотнее жрала живую, а не мертвую. Даже ящериц в избу приносила. С этим Катерина Федосеевна тоже примириться не могла.
— Душегубица некрещеная! Мало тебе всякой еды на свете, мало котлет, все норовишь кому-нибудь горло перегрызть! Веретельниц-то домой зачем тащишь? Накличешь беду какую-нибудь… — ворчала она.
И еще было горе: с появлением кошки в избе у Катерины Федосеевны почему-то стали вянуть цветы. Любимая ее герань в большой глиняной кринке, которая раньше, в деревне, служила квашней для блинов, — широколистая жирная герань погибала на глазах. Ни подкормка, ни поливки не помогали, и нельзя было понять, отчего герань сохнет.
Новое бедствие началось ранней весной, когда под окном у Катерины Федосеевны, не давая ей спать, по целым ночам ревмя ревели Подружкины ухажеры, а сама Подружка, беснуясь, металась по избе и не хотела ни есть, ни пить, пока не вырывалась на свободу. В эти недели домой она заглядывала редко, как правило, под утро, растрепанная, усталая, мяукала жалобно, а нажравшись, заваливалась на постель или забиралась на печь и спала до вечера. Вечером все начиналось сызнова.
Помучившись, Катерина Федосеевна перестала закрывать форточку совсем, только жарче топила печь.
Однажды она до полночи собирала очередную посылочку для дочери: довязала шерстяные носки, — в Заполярье, по ее представлениям, всегда стояли трескучие морозы, где набраться теплых носков; насушила кулек картошки из остатков со своего огорода, бережно свернула и сунула в тот же фанерный ящичек последний рукотерник с петухами, уцелевший от ее девического приданого, да старомодную стеклянную в медной оправе брошку… Собирая все это, она ждала, не вернется ли кошка, и думала о дочери, что вот выросла и бросила старуху одну, ни сама в гости не приезжает, ни ее к себе не позовет. Да и Подружка тоже хороша!..
Оставалось обшить фанерную посылочку дерюжкой, но Катерина Федосеевна уже не смогла этого сделать, легла и заснула.
Вот тогда-то к ней через открытую форточку и заглянул огромный черный котище и заревел по-человечьи, да так страшно, как только совы ревут по ночам в глухом таежном лесу. Катерина Федосеевна не заметила, как очутилась на ногах, и, еще не совсем проснувшись и не опомнясь от первого неясного испуга, увидела вдруг прямо перед собою, чуть повыше своей головы, в прямоугольном, темном проеме окна, самого настоящего черного дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей.
До самой смерти она не могла вспомнить, что с ней было потом, — кричала ли она, и когда успела включить свет, и каким образом в руках у нее появилась кочерга, и сама ли она захлопнула форточку или кто-то другой закрыл ее, и почему она оказалась лежащей на полу.
Утром соседка Поликарповна, подоив козу и не дождавшись Катерины Федосеевны, сама принесла ей бутылку парного молока. Катерина Федосеевна с трудом встала с полу, открыла дверь, подняла кочергу и поставила ее в угол.
— Что это ты, Федосеевна, днем с огнем сидишь? — удивилась Поликарповна. — Уж не заболела ли?
Катерина Федосеевна молча добрела до выключателя, молча повернула его. Потом взяла бутылку с молоком и тут же половину вылила в блюдце для кошки, хотя кошки в доме все еще не было. Руки у Катерины Федосеевны при этом дрожали.
Поликарповну осенила недобрая догадка:
— Неужто все мое молоко ты кошке спаиваешь? Кабы знала, ни разу бы не дала. Валькиным ребятам отказывала, а тебе отпускала. Из-за денег я, что ли?
— Заболела я, — тихо и как-то неразборчиво сказала Катерина Федосеевна и легла на постель поверх одеяла. Больше от нее нельзя было добиться ни слова.
Тотчас после Поликарповны к ней прибежала расторопная солдатка Валя, помогла ей лечь под одеяло, взбила подушку, хотела чем-нибудь покормить, но Катерина Федосеевна ничего есть не стала, тогда Валя перед уходом приказала ей:
— Лежи, не рыпайся. Я сейчас на работу, а вечером забегу. Поняла? И врача к тебе пришлю. Поняла? У тебя ведь дочка есть, может, ей телеграмму послать?
— Не успеет опять! — сказала Катерина Федосеевна.
— Кто не успеет, дочка или телеграмма?
Катерина Федосеевна показала глазами на закрытую форточку и с трудом произнесла еще одно слово:
— Открой!
Валя открыла форточку, больная успокоилась и сразу заснула.
Вечером пришел врач. Катерина Федосеевна не отвечала ни на один из его вопросов, только с тревогой поглядывала из форточку, словно ждала кого.
— Дует? — спросил врач и хотел закрыть форточку.
Катерина Федосеевна вымолвила:
— Не надо!
И снова заснула.
Разбудила ее Подружка. Голодная и взъерошенная, она со стуком прыгнула из форточки на пол, метнулась под шесток к своему блюдцу, вылакала приготовленное для нее молоко, но не насытилась, а потому забралась на постель к своей хозяйке, стала ходить по ней, мяукать и чистить и точить на ее груди свои когти.
Катерина Федосеевна спросонья вздрогнула вся. Вздрогнула даже кровать под нею. Расширившиеся до предела глаза больной женщины с ужасом остановились на кошке, словно она опять увидела перед собой ночного дьявола. "Может, это смерть моя?" — припомнилось ей. Но скоро в глазах ее засветился добрый спокойный огонек. Катерина Федосеевна медленно вытянула из-под одеяла правую руку и ласково положила ее на спину Подружки.
— Не уходи! Подруинька… — попросила она.
Кошка, прогнув спину, выскользнула из-под тяжелой руки хозяйки и снова побежала к печке, под шесток, но в блюдце по-прежнему было пусто, тогда она, осмотревшись и что-то по-своему сообразив, прыгнула на суденку, опрокинула незаткнутую бутылку с остатками молока и, с опаской поглядывая на хозяйку, принялась вылизывать белую лужу и на сундуке и на полу.
Катерина Федосеевна не крикнула на нее, не пригрозила ничем, даже не пошевелилась, и кошка, по-видимому, поняла, что больше ей нечего бояться. Зализав молоко и отряхнув лапки, она забралась в кринку-квашню с геранью, покрутилась, помялась на одном месте и уже без всякой опаски, прямо на глазах у потрясенной хозяйки, сделала свое маленькое дело, после чего брезгливо разворошила под собой цветочную землю.
Катерина Федосеевна поняла наконец, отчего повяла ее любимая герань.
— Подлая! — прошептала она Подружке. — Ящик ведь есть! — и отворотила от нее свое лицо.
Подружка еще раз отряхнула лапки, взобралась на кровать и, мурлыкая, легла хозяйке на грудь, — печка в этот день была не топлена.
— Подлая! — повторила Катерина Федосеевна, но прогонять от себя кошку не стала. На бледных щеках ее появились слезы.
Валя застала обеих спящими — Федосеевну и ее Подружку. Круглая, бойкая, она колобком прокатилась от порога, поставила на стол корзину с едой и вдруг возмущенно вскрикнула, увидев на груди Катерины Федосеевны спящую кошку:
— Издевательство какое! Больного человека придавила, паскуда. — Она шлепнула кошку по усатой морде и сбросила ее с груди старухи.
Катерина Федосеевна проснулась, лицо ее исказилось от боли, словно Валя шлепнула ее, а не кошку.
— Оставь! — выговорила она.
— Как это оставь? Развалилась на тебе, свинья жирная, а ты терпишь. Она и задушить может, только допусти — лесная ведь! Вот я выброшу ее в форточку, пусть знает свое место.
— Закрой! — прошептала Катерина Федосеевна и показала глазами на форточку.
— Ладно, закрою, коли так, — согласилась Валя и захлопнула форточку. — Делишки-то как твои? Выкарабкаешься или нет? Карабкаться надо. Может, дочке телеграмму все-таки послать? Адрес-то где у тебя?
— Покорми! — сказала Катерина Федосеевна.
— Вот это резонный разговор. Сейчас покормлю. Тут я принесла тебе кое-чего.
— Кошку! — сказала Катерина Федосеевна.
— Как это — кошку? Сперва тебя покормлю, а потом уж кошке — что останется.
— Кошку! — повторила больная.
— Ладно, коли так, покормлю и кошку. Нашла кого полюбить! — Валя выложила на стол еду из корзинки и кинула кошке кусок хлеба. — Жри, потаскуха!
Кошка подошла к хлебу, обнюхала его и, отвернувшись, с недоумением посмотрела на свою хозяйку, на Катерину Федосеевну.
— А ведь она не голодная у тебя! — обиделась Валя. — Ишь оборотень! Ей, наверно, сметанки надо, а то, может, котлетку жареную подать, бифштекс-ромштекс?
Катерина Федосеевна закрыла глаза.
Всегда суматошная Валя тихо просидела у постели старухи целый вечер, накормила-таки ее манной кашей с ложечки и пообещала заглянуть до ночи еще разок.
— А то свою Маруську пошлю! — сказала она.
Все это время кошка скрывалась за печной трубой, дремала, изредка приоткрывала глаза, словно шторки на окнах раздвигала, следила за своей хозяйкой. А когда за Валей захлопнулась дверь, она мягко спустилась с печи, забралась на стол и спокойно и плотно поужинала, выбирая что по душе.
Катерина Федосеевна видела все, но уже ничего не говорила.
Совсем поздно в избу, постучавшись, вошла Валина дочка, Маруся, школьница лет пятнадцати, робко примостилась у кровати бабки Федосеевны, которой почему-то всегда побаивалась, сидела не двигаясь, все ждала какого-нибудь приказания или просьбы, но сама спрашивать ни о чем не решалась.
Катерина Федосеевна взяла ее руку в свои — жилистые и холодные — и долго молча гладила, словно извинялась, что раньше не признавала ее.
В избе было прохладно и сыро, пахло лекарствами.
Под бревенчатым потолком тускло горела электрическая лампочка, обернутая бумагой.
Кошка опять сидела за печной трубой, чего-то ждала, но к хозяйке не подходила и даже не глядела в ее сторону.
— Шить умеешь? — вдруг спросила Катерина Федосеевна.
Маруся вздрогнула от неожиданности.
— Чего шить?
— Посылку обшей. Вон… — Она показала глазами в угол избы. — Адрес напиши… В шкапу. Пошли дочке.
Маруся принялась за работу.
На другой день врач, прослушав больную и выписав новые назначения, сказал:
— Душно у тебя здесь, бабуся. Я к тебе дежурную сестру пошлю, пока в больнице место не освободилось. Она и печку будет топить.
— В деревню бы меня… — попросила Катерина Федосеевна.
— Тоскуешь? — заинтересовался врач. — А кто тебя там лечить будет?
— В деревню бы…
— Конечно, в деревню бы… Но тут уж я ничего сделать не могу. Вот поправишься, тогда… — Перед уходом он открыл форточку.
— Не надо! — с испугом сказала Катерина Федосеевна.
Но было уже поздно: кошка сорвалась с печи, мяукнула, взвилась и, скрежетнув когтями по стеклу, скрылась.
Подружка появлялась в избе еще не раз, но лишь в те часы, когда больная старуха почему-либо оставалась одна.
Воровато поглядывая на свою хозяйку, а то делая вид, будто вовсе не замечает ее, кошка подбирала остатки еды со стола, затем обшаривала и обнюхивала все закутки в избе и снова исчезала через форточку. А если в избе не оказывалось никакой еды, она забиралась к Катерине Федосеевне на грудь, тормошила ее и требовательно мяукала.
Просыпаясь, Катерина Федосеевна спервоначалу, как всегда, пугалась, но потом внимательно и бесстрастно следила за своей Подружкой, все уже понимала и ни о чем не заговаривала с ней.
В последний раз Валя застала Подружку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.
— Задушила-таки, ведьма! — взвизгнула Валя, хватая кошку за мягкий пушистый воротник. — Ну погоди, сейчас-то я знаю, что с тобой делать. Сейчас ты не уйдешь от меня. Сдам я тебя куда следует.
9